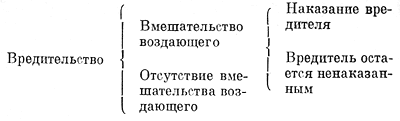©
Г.К. Косиков. Структурная
поэтика сюжетосложения во Франции // Зарубежное литературоведение
70-х годов. Направления, тенденции, проблемы. М.: Наука, 1984,
с. 155-204.
© OCR – Г.К. Косиков, 2003
Текст
воспроизводится по изданию: Косиков Г.К. От структурализма
к постструктурализму (проблемы методологии). М.: Рудомино,
1998, с. 77-122.
Номера
страниц указаны в квадратных скобках.
Оригинал
электронной версии: http://www.libfl.ru/mimesis/txt/narr.html
Републикация
на сайте "Зеленой лампы" - с любезного согласия автора
СТРУКТУРНАЯ
ПОЭТИКА СЮЖЕТОСЛОЖЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ
(продолжение)
Вернуться
к началу статьи
Прежде
всего остается неясным главное: какой из выделенных Греймасом
уровней должен служить предметом сюжетологии как [101-102] дисциплины,
входящей в общую поэтику? В изучении, конечно, нуждаются все
эти уровни, но подлинную ценность для Греймаса представляет
статический уровень фундаментальной грамматики, поскольку
он порождает все остальные. В сущности, всю поверхностную
грамматику (не говоря уже о внешнем уровне языковых
структур) он рассматривает как простой материальный субстрат
для воплощения “семиотической игры” базовых категорий, имеющей
место в рамках “фундаментальной грамматики”24.
На втором месте по значению стоит у Греймаса уровень “актантов”
и “функций”, так как он позволяет антропоморфизировать логико-семиотические
отношения между терминами, составляющими приведенный выше квадрат.
Уровень же предметной манифестации вовсе выпал из области
анализа у Греймаса, хотя, по нашему мнению, его роль не сводится
к простому “манифестированию” более глубоких уровней и может
представлять самостоятельный интерес для общей теории сюжетосложения.
Но
важнее всего то, что Греймас не выделил семантику в качестве
сюжетопорождающей категории, в чем, она, бесспорно, нуждается.
Ведь очевидно, что такие семантические признаки, как “бедный”,
“богатый”, “знатный”, “худородный”, играют сюжетообразующую
роль в той мере, в какой они создают ситуации и служат почвой
для мотивировок, приводящих в движение действие. Разумеется,
сам факт существования сюжетной семантики хорошо известен представителям
французской структурной поэтики, но их интересует не содержательная
сторона семантических категорий, а роль, которую они играют
в повествовательном синтаксисе. С этой точки зрения неважно,
например, чего именно стремится добиться герой - богатства,
знаний, морального совершенства и т. п.; важно, что эти качества
представляют “ценность-для-субъекта”, выступают в роли объекта,
которым он стремится овладеть, и в этом отношении получают определение
на синтаксической оси “субъект-->объект”. Для повествовательного
синтаксиса неважно также, добр герой или зол, скуп или щедр,
благороден или подл; важно, что все эти качества могут быть
подведены под логическую категорию предиката. Вот почему
сюжетную семантику бесполезно искать на уровне “антропоморфных
действий”, который оперирует лишь логико-синтаксическими правилами
“повествовательной грамматики”. В модели Греймаса семантику
можно обнаружить только на уровне “предметной манифестации”.
Однако
в действительности она лишь присутствует на этом уровне, конкретизируется
в нем, но лежит глубже, на уровне сюжета. Выделим его.
Очевидно,
например, что выражение “Субъект X обладает [102-103] свойством
S1” принадлежит уровню “антропоморфных действий”
и устанавливает логические отношения между X и S1,
так как в данном случае безразлично, кто именно является субъектом
X и в чем заключается свойство S1. Зато фраза “Крестьянин
Жан беден” (если она описывает исходную сюжетную ситуацию) относится
уже к собственно сюжетному уровню: она, во-первых, реализует
логические отношения, установленные на уровне “антропоморфных
действий”, и, во-вторых, задает семантику сюжета. В сюжете,
следовательно, происходит семантизация логических категорий
и отношений, наполнение их реальным социокультурным содержанием,
с одной стороны, и логико-синтаксическая организация этого содержания
- с другой. Фраза же “В доме у Жана была худая крыша, и ел он
только один раз в день” конкретизирует логические и семантические
отношения, заявленные в сюжете, то есть относится к уровню “предметной
манифестации”, к уровню “переменных” величин, поскольку детали
и краски, при помощи которых изображается бедность Жана, могут
стать иными в ином повествовании о нем.
Странным
на первый взгляд образом собственно сюжетный уровень попросту
отсутствует в модели Греймаса. Он должен был бы располагаться
между уровнем предметной манифестации и уровнем антропоморфных
действий, но его там нет. Это, на наш взгляд, важнейший
теоретический недостаток модели Греймаса. Любой исследователь
имеет, конечно, право изучать те стороны объекта, которые важны
для него, но не учитывать самого факта существования сюжета
при построении сюжетологической модели вряд ли возможно. Греймас
же, непосредственно переходя от “антропоморфных действий”
к их конкретно-изобразительному воплощению, как раз и потерял
на этом пути сюжет, отождествив его, по всей видимости, с “предметной
манифестацией”.
Таким
образом, модель Греймаса - это сюжетология без сюжета, и в этом
смысле литературоведение без литературы, поскольку Греймас изучает
не сюжет как таковой, а одни только логические законы, позволяющие
ему родиться. Вот почему сюжет и его семантика “пропущены” у
Греймаса вовсе не по недосмотру. Вся его модель строится под
углом зрения все более и более конкретных “манифестаций” логико-семиотических
отношений, существующих в рамках “фундаментальной грамматики”.
Семантику же нельзя рассматривать как простое средство такой
манифестации. Она не просто “конкретизирует” эти отношения,
а служит самостоятельным способом организации сюжета, в том
числе даже и его синтагматики. Формально-логическая модель,
предложенная Греймасом, объясняет в сюжете многое, но далеко
не все. К примеру, такая функция, как “вредительство”, действительно
[103-104] может в конечном счете быть выведена из “фундаментальной
грамматики”, но мы уже говорили, что наличие в волшебной сказке
функций, подобных подвоху, пособничеству, отлучке, выведыванию
и т. п., необъяснимо с точки зрения одной только логической
принудительности. Между тем все это неоспоримые явления сюжета,
нуждающиеся в выяснении порождающего их механизма. Очевидно,
сюжетообразующая роль семантики настолько велика, что исследователь
сюжета должен либо в полной мере учитывать его семантическую
природу, либо столь же последовательно отвлекаться от нее. Греймас,
как кажется, пошел по второму пути, ибо семантика попросту “мешает”,
когда речь идет об установлении “чистой” логики повествовательных
произведений. Строго говоря, Греймас не “не заметил” семантики,
а избавился от нее путем растворения в “предметной манифестации”,
а потому потерял и сам сюжет в качестве самостоятельной величины.
Итак,
наряду с общей теорией логического порождения сюжета должна
существовать и общая теория его семантического порождения, связанная
с “социологикой”, с культурно-символическим аспектом человеческого
мышления.
Вернемся,
однако, к Греймасу. Увлеченный изучением “фундаментальной грамматики”,
он проявил не столько равнодушие, сколько недоверие к “поверхностной
грамматике”. В силу того что, по Греймасу, сокровенный и, так
сказать, окончательный смысл повествовательных текстов заключен
в приведенном выше “семиотическом квадрате”, т. е. в сугубо
логических отношениях между ахронными и неподвижными “концептуальными
категориями”, ни динамизация этих категорий, ни их темпорализация,
ни антропоморфизация, ни семантизация, ни предметная конкретизация
не могут обогатить их никаким существенно новым значением. Скорее,
напротив, персонификация этих категорий, появление человеческого
субъекта, преследующего свои цели и двигающегося от одного состояния
к другому и т. п., в известном смысле даже скрывает и искажает
чисто парадигматические отношения между ними, создавая, как
говорится в аннотации к книге “Du sens”, “иллюзию свободы, истины
и красоты”, тогда как на деле, по мнению автора, эта иллюзия
маскирует логически принудительные связи между терминами, составляющими
“семиотический квадрат”, каковой квадрат, по сути дела, и составляет
подлинный предмет всей сюжетологической теории Греймаса. Именно
к нему, а не к сюжету стремится эта теория как к своему пределу.
Однако с подобным пониманием предмета и задач сюжетологии трудно
согласиться, и - скажем сразу - с ним не [104-105] соглашаются
другие представители французской структурной поэтики.
Но
самое главное заключается в другом. Любую теорию следует оценивать
с точки зрения степени достижения ею поставленных перед собою
целей. В этом отношении, за вычетом сделанных замечаний, сам
способ членения повествовательного текста на уровни, предложенный
Греймасом, представляется нужным в той мере, в какой он действительно
раскрывает механизм постепенной конкретизации категорий “фундаментальной
грамматики”. Важным представляется и установление парадигматических
отношений между синтагматическими категориями. Отметим, наконец,
плодотворность греймасовского определения “функций” и “актантов”,
как и разработку других проблем, связанных с выделением уровня
“антропоморфных действий”: сам факт такого выделения играет,
по нашему мнению, принципиальную роль для построения логической
теории порождения повествовательных текстов.
Однако
смысл существования модели Греймаса сводится к тому, что, возникая
в качестве одного из аспектов общей поэтики, она имеет своей
целью установить именно универсальные текстопорождающие
законы для сюжетных произведений. На “фундаментальном уровне”
такая универсальность присуща, очевидно, отношениям между терминами
S1 и не-S1, поскольку суть всякого сюжета
заключается, помимо прочего, в парадигматической противопоставленности
и напряженности, существующей между начальным состоянием субъекта
и состоянием, к которому он стремится. Далее, универсальностью
обладает, на наш взгляд, идея обязательной антропоморфизации
“семиотического квадрата”: сюжетным может быть признан лишь
такой текст, в котором действуют “человеческие и очеловеченные”
существа. Антропоморфизация предполагает столь же обязательное
существование модальных категорий - способность субъектов действия
“желать”, “знать” и “мочь”. Универсальными следует признать
также динамизацию и темпорализацию исходных семиотических отношений:
сюжет может быть там, где есть движение, осуществляющееся
во времени.
Этим,
пожалуй, и следует ограничиться, потому что конкретные модели,
которые Греймас строит на уровне антропоморфных действий, вряд
ли могут быть признаны всеохватывающими. Так, Греймас справедливо
исходит из того, что у всякого действия с необходимостью должны
быть начало и конец. Причем, в отличие от Кл. Бремона (скажем
об этом, забегая вперед), он вполне отчетливо понимает конституирующую
роль конца для литературных произведений, проявляя плодотворный
интерес к действию механизма, приводящего события в движение
и ведущего их к [105-106] известному финалу. Приведем в этой
связи одно из его определений.
Начало
действия, пишет Греймас, можно представить “как установление
конъюнктивного договорного отношения между подателем
и получателем-субъектом, отношения, которому сопутствует пространственная
дизъюнкция между этими двумя актантами. Конец рассказа,
напротив, будет отмечен пространственной конъюнкцией между ними
и окончательным распределением объектов-ценностей, создающим
благодаря новому распределению этих как объективных, так и модальных
ценностей новый договор”25.
Очевидно,
однако, что эта модель далека от универсальности, к которой
в целом стремится Греймас; за ней легко просматриваются некоторые
разновидности фольклорно-мифологических повествований, но она
не охватывает остальных сюжетных текстов, представленных мировой
литературой. Аналогичным образом обстоит дело и в тех случаях,
когда Греймас предлагает понимать сюжет как противоборство между
Субъектом и Антисубъектом или как обмен объектами между разными
субъектами26,
или как пространственное перемещение объекта из одного места
в другое. Обладая бесспорной практической ценностью, подобные
модели тем не менее не могут претендовать на универсальность
и в этом отношении могут служить мерой неадекватности теории
Греймаса тем глобальным целям, которые перед ним стояли.
Не
случайно поэтому теория Греймаса была подвергнута принципиальной
и довольно резкой (хотя, на наш взгляд, не во всем справедливой)
критике со стороны других представителей французской структурной
поэтики, в первую очередь со стороны Кл. Бремона.
Как
и Греймас, Бремон стремится построить логико-синтаксическую
универсальную модель повествовательных текстов. Этим определяется
его позиция и этим же определяется характер его полемики против
Греймаса, с одной стороны, и против В.Я. Проппа - с другой.
Модель, в конечном счете предложенная Бремоном, сформировалась
в результате прямого отталкивания от концепций двух названных
исследователей.
Что
касается Греймаса, то Бремон убежден, что его модель далеко
выходит за рамки того необходимого минимума, который требуется
для определения повествовательных текстов.
Что
же до Проппа, то здесь Бремон решительно выступил против самой
идеи учета семантики для построения общей теории повествования
и, по существу, высказался против изучения сюжета в его собственной
специфике, т. е. против его изучения в качестве самостоятельного
уровня повествовательных произведений. [106-107] Модель Бремона
бескомпромиссно нацелена на один только повествовательный синтаксис.
В
силу того что критика Бремоном Проппа представляется особенно
неубедительной (хотя сама концепция Бремона построена отнюдь
не на песке, а принципиально учитывает такие факторы, которые
с должной теоретической определенностью не были выявлены ни
Проппом, ни Греймасом, ни другими исследователями), с этого
вопроса мы и начнем.
Отправным
пунктом для критического анализа, предпринятого Бремоном, послужило
пропповское определение функции через ее синтагматические связи
и вытекающий отсюда тезис о том, что “последовательность функций
всегда одинакова” и что “все волшебные сказки однотипны по своему
строению”27.
“"Русский
сказочник", - замечает по этому поводу Бремон, - подобен путешественнику,
который всегда ездит по одной и той же дороге, сохраняя за собой
свободу задержаться на любой станции: если в полдень он перекусил
в пункте X, то это не значит, что ему нельзя остановиться на
обед в пункте Y)”28.
Иными
словами, если в модели Проппа существует свобода “остановок”
(свобода актуализации или неактуализации одной из функций),
то в ней зато не существует свободы свернуть с раз установленного
пути. В этой модели, пишет Бремон, полностью отсутствуют “функции-шарниры”,
“функции-стрелки” (fonctions-pivots), которые позволяли бы рассказчику
в любой момент изменить направление своего рассказа. Причина,
по мнению Бремона, заключается в том, что, согласно Проппу,
“всегда можно руководствоваться принципом определения функции
по ее последствиям”29.
Это значит, например, что если злодей совершает “вредительский”
поступок, то само “вредительство” имеет место лишь затем, чтобы
возникла возможность наказать “вредителя” и дать возможность
восторжествовать добру: не наказание вытекает из “вредительства”,
а, наоборот, “вредительство” из наказания. В противоречии с
формальной логикой событийный ряд оказывается организован не
от начала к концу, а от конца к началу. Эту особенность модели
Проппа Бремон определил как ее финализм30.
Так,
по Проппу, функция Борьба (героя с антагонистом) неизбежно
влечет за собой Победу героя. Это значит, что если, вступив
в борьбу, персонаж терпит в ней поражение, то сама борьба должна
быть уже обозначена не как Борьба, а как Вредительство
или же как Наказание в результате невыдержанного испытания
(см. анализ сказки № 133). “Стоит ли после этого удивляться,
что мы не встречаем случаев, когда борьба заканчивалась бы в
пользу "вредителя": ведь для этого достаточно считать борьбой
только такую борьбу, за которой следует победа”31.
[107-108]
Однако,
утверждает Бремон, если снять финалистские ограничения Проппа,
то можно заметить, что в принципе каждая функция открывает возможность
не для одного, а для нескольких логически равновероятных исходов.
Так, Борьба может закончиться Победой, но также
Поражением, но также: ни Победой, ни Поражением,
но также: и Победой, и Поражением; при этом в отличие
от Проппа определение функции - Борьба - во всех случаях
останется неизменными32.
Даже
если признать, пишет Бремон, единонаправленность событийного
ряда русской волшебной сказки в качестве ее специфического свойства,
такое свойство никак нельзя считать образцом для иных типов
повествовательных текстов, где, напротив, наблюдаются самые
неожиданные отклонения от “прямой” линии, где каждая точка сюжета
предполагает по меньшей мере альтернативу для его дальнейшего
развития. Поэтому Бремон выдвигает два предположения относительно
самих причин возникновения финалистской модели Проппа:
“а)
либо в русской народной сказке функции-шарниры попросту отсутствуют,
так что метод Проппа, будучи ей вполне адекватен, в то же время
не может быть применен к иному материалу;
б)
либо русская народная сказка в действительности все же содержит
в себе - хотя бы в зачаточной форме - такие функции, а к их
устранению приводит сам метод Проппа”33.
Правильным
Бремон считает второй ответ. Невозможно поверить, пишет он,
“будто русский сказочник, проявляющий столько выдумки, когда
дело идет о выборе "атрибутов" персонажей, никогда не пытается
сойти с раз навсегда протоптанной тропинки. Он должен хотя бы
иногда делать вид, что вот-вот собьется на неправильную дорогу.
Даже если герой одерживает непременную победу, а слушатели заранее
ожидают и требуют этого, то все равно победа может вызвать драматический
интерес только тогда, когда сама возможность поражения, словно
противореча жесткому финализму повествования, поддерживает напряжение
аудитории до самого окончания борьбы; возможности успеха и неуспеха,
заложенные в борьбе, заставляют страшиться победы вредителя
и желать победы герою... На практике такие эпизоды часты в русской
сказке. Это своего рода мертвые ветви повествования: действие
устремляется по ним, заходит в тупик, отступает и возвращается
в свое русло. И если подобные наметки альтернативных возможностей
не учитываются в схеме Проппа, то это значит лишь то, что их
не допускает сам его метод”34.
Короче, финализм, по Бремону, есть не столько фактическая
черта русской волшебной сказки, сколько специфическая особенность
теоретической модели Проппа. [108-109]
В
этой связи у Бремона и возникают возражения против понятий функция
и сюжетный ход, как их определил Пропп. С одной стороны,
Бремону представляется, что синтагматическая связь пропповских
функций между собой неоправданно тесна, там как в действительности
функции обладают значительной свободой. К примеру, если наделение
волшебным средством (Z) и логически, и во времени не
может не предшествовать победе над антагонистом (П),
где это средство будет использовано, и в этом отношении закон
Проппа вполне оправдывается, то, с другой стороны, между функцией
Z и, скажем, функциями А, В, C и не существует
отношений ни временной, ни логической принудительности, поскольку
герой может получить волшебное средство и непосредственно перед
схваткой с противником, и при своем рождении, и в момент, когда
он покидает родительский дом и т. п.
Вот
почему, полагает Бремон, тезис Проппа “последовательность функций
всегда одинакова” не выдерживает строгой проверки даже на материале
русской волшебной сказки. Некоторые функции укладываются в такие
последовательности, а некоторые - не укладываются.
С
другой стороны, понятие хода у Проппа35 представляется
Бремону излишне широким в том смысле, что не позволяет провести
дифференциацию “промежуточных функций”, которые все оказываются
растворены, поглощены “ходом”, совершенно на равных основаниях
вовлечены в единонаправленное движение действия к своему концу.
Между
тем, считает Бремон, если освободиться от завораживающей магии
финализма и взглянуть на дело с чисто синтаксической точки зрения,
то можно заметить, что, во-первых, отдельные функции группируются
между собой в небольшие, но нерасторжимые блоки, “последовательности”,
а во-вторых, эти последовательности образуют разные логические
ряды.
Так,
в схеме Проппа функция К (клеймение) помещается между
функциями Б (борьба героя с антагонистом) и П
(победа). Однако очевидно, что с функциональной точки зрения
клеймение никак не связано ни с борьбой, ни с победой, а принадлежит
совершенно иной логической последовательности, которую можно
представить себе так: “героя метят - герой исчезает - герой
появляется неузнанным - героя узнают по полученной им метке”.
Логическая необходимость заключается здесь в том, что, дабы
быть узнанным, герой сначала должен быть отмечен. Что же касается
логической последовательности “борьба - победа”, то клеймение
может осуществиться и во время борьбы, и до, и после нее. Это,
утверждает Бремон, “вопрос простого удобства: чем [109-110]
ближе к моменту своего подвига герой будет "отмечен", тем с
большей уверенностью его можно будет признать”36;
это единственная причина, почему сказка чаще помещает К
между Б и П.
“Что
же отсюда следует? Что существуют два типа связи между функциями.
Одни из них вытекают друг из друга не только фактически, но
и по праву логики, которая делает неприкосновенным их порядок
внутри последовательности; другие связаны между собой отношением
частотной вероятности, вытекающим либо из фактического удобства,
либо из культурных привычек”37.
Отсюда
Бремон заключает, что необходимо выделить такую повествовательную
единицу, которая была бы более крупной, чем функция,
но более мелкой, чем пропповский ход, фиксируя при этом
одни только логически обязательные связи между функциями и учитывая
также альтернативные возможности развития действия в любой точке
сюжета. Эту единицу Бремон обозначил словом последовательность
(sequence).
Всякая
“последовательность” включает в себя три момента, каждый из
которых предполагает возможность альтернативы: 1) начальная
ситуация, которая открывает путь для совершения того или иного
действия; 2) действие, имплицированное начальной ситуацией,
может либо осуществиться, либо не осуществиться; 3) если оно
осуществляется, оно может либо привести к желаемому результату,
либо не привести к нему. Схему элементарной последовательности
можно представить в таком виде38:

Например:
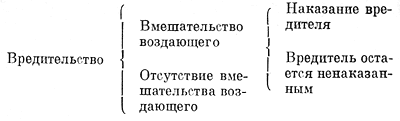
Связываясь
и группируясь между собой, подобные последовательности, по Бремону,
как раз и создают логический каркас системы событий во всяком
произведении. Не останавливаясь на конкретных деталях схемы
Бремона, которую “бесспорно, придется [110-111] учитывать всякому
занимающемуся механизмом сюжета”39 и
частичное представление о которой читатель сможет получить по
русскому переводу его работ40,
попытаемся дать оценку теоретической стороне модели Бремона
и прежде всего определить характер его расхождений с Проппом.
Сам
Бремон, как мы видели, склонен полагать, что дело сводится к
логической стороне вопроса, что, стремясь “выловить” те же логически
необходимые связи между событиями, что и он сам, Пропп в одном
случае забросил слишком крупную сеть, в которую “попались” одни
только функции, а в другом - слишком мелкую, которая захватила
лишние с точки зрения логики водоросли “культурных привычек”
и художественного “удобства”, содержащиеся в повествовательных
текстах.
По
нашему мнению, дело обстоит иначе: Пропп и Бремон исследовали
разные объекты: Пропп - сюжет русской волшебной сказки в качестве
фольклорного жанра, а Бремон - логику человеческого поведения
независимо от ее жанрового, шире - литературного и еще шире
- любого повествовательного воплощения. Объект анализа у Бремона
- не сюжет как таковой, а в первом приближении уровень антропоморфных
действий, если воспользоваться термином Греймаса. О том,
что анализ этого уровня важен и необходим, уже говорилось, но
пример полемики Бремона против Проппа наглядно показывает, что
именно теряет исследователь при переходе с сюжетного уровня
на уровень антропоморфных действий.
Искажение
перспективы, в которой Бремон рассматривает “Морфологию сказки”,
проявилось в его убеждении, будто метод Проппа неадекватен анализируемому
им жанру, будто финализм в большей мере является продуктом
теоретического сознания Проппа, чем фактической особенностью
волшебной сказки, будто семантика сюжета (которую Бремон ошибочно
сводит к “культурным привычкам” и к соображениям “удобства”)
является каким- то досадным осложнением на прозрачной логической
сетке “повествовательных возможностей”.
Мы,
со своей стороны, считаем, что метод Проппа адекватен волшебной
сказке именно в той мере41,
в какой он учитывает семантику этого жанра, что вне семантики
анализ сюжета немыслим, что, наконец, финализм (который
необязательно понимать так жестко, как это делал Пропп) есть
не только принадлежность какого-либо жанра или разновидности
повествовательной литературы, но неотъемлемое свойство сюжета
как такового, позволяющее радикально отличать его от уровня
“антропоморфных действий”.
Обратим
внимание на следующее. Пропп объяснял, что [111-112] установленный
им порядок следования функций обусловлен двумя рядами закономерностей
- логическими и художественными (“если прочесть
все сказки подряд, то мы увидим, как с логической и художественной
необходимостью одна функция вытекает из другой” 42).
Правда, Пропп, как кажется, не отметил принципиального несовпадения
и даже противодействия этих двух закономерностей (слова “логическое”
и “художественное” он связывает обычно соединительным союзом
“и”). Между тем оно существует и может быть сформулировано.
Что
касается логической необходимости в событийном ряду, то она
устанавливает отношение от причины к следствию: “Воровство не
может произойти раньше взлома двери”43,
победа - раньше боя, использование волшебного средства - раньше
его получения и т. п. В этой связи надо учесть и роль “элементарных
последовательностей”, установленных Бремоном, которые служат
моделью тех возможностей развития действия, которые потенциально
содержит в себе всякая функция. Ясно, однако, что рассказчик
реализует лишь одну из этих возможностей: сюжет как таковой
возникает в результате серии выборов, осуществляемых автором
из номенклатуры логически равновероятных последствий, вытекающих
из той или иной функции. Чем же диктуется самый характер такого
выбора, почему, к примеру, сказка всегда заканчивает бой победой
героя над антагонистом?
Исходя
из целей, которые преследует действующий субъект, ответить
на этот вопрос невозможно. “Элементарные последовательности”
Бремона, учитывающие эти цели, представляют собой ветвящееся
“дерево” поступков, каждый из которых потенциально влечет за
собой последующий таким образом, что событийные цепочки развертываются
в бесконечность. Действительно, субъект может либо достигнуть,
либо не достигнуть поставленной перед собой цели; однако в
любом
случае его действия создадут ситуацию, которая сама может послужить
источником для новых коллизий, порождающих, в свою очередь,
другие ситуации и другие коллизии и т.д.
Зная
категорию начала, модель Бремона в принципе не знает
категории конца: любой конец в этой модели условен и
относителен. И это неудивительно, поскольку речь идет не о сюжетном
уровне, а об уровне “антропоморфных действий”, описывающем логику
человеческого поведения в самой жизни, которая не знает понятия
окончательной развязки.
Зато
понятие развязки составляет сущность сюжета как важнейшей
категории повествовательных текстов. Подобно путешественнику,
стремящемуся к цели своего пути, всякий сюжет стремится к своему
абсолютному и безусловному концу, причем конец этот следует
определить не формально-логически, а именно [112-113] семантически.
Так, смысл сказочной развязки заключен вовсе не в самом факте
женитьбы героя на царевне, в ликвидации недостачи и т. п., а
в том, что подобный исход означает восстановление нарушенного
равновесия, торжество добра над злом. Это семантическая концовка
сказки как жанра, и она, будучи задана еще до того, как рассказчик
приступил к повествованию, диктует такое построение предшествующих
событий, которое непременно должно привести к искомому финалу.
Финал - вот что заставляет рассказчика подбирать такие функции
и такие их последствия, которые отвечают семантическому смыслу
данного произведения, жанра, направления и т. п. Равная вероятность
актуализации логических возможностей развития действия существует
лишь до тех пор, пока мы остаемся на уровне антропоморфных
действий. Как только мы переходим на уровень сюжета, она
исчезает. К примеру, если логически одинаково вероятно, что
всякий герой может либо одержать победу, либо потерпеть поражение,
то для сюжета сказки последняя возможность равна нулю.
Характер
семантических концовок меняется от произведения к произведению,
от жанра к жанру, от эпохи к эпохе. Так, если сюжет сказки всегда
движется к торжеству добра над злом, то, скажем, “бытовые” новеллы
Боккаччо - к победе сильного и ловкого над слабым и глупым.
Семантический финал реалистического романа, построенного по
модели “Красного и черного” или “Утраченных иллюзий”, предполагает
непременное поражение героя, а французская классицистическая
трагедия XVII в. - и победу, и поражение одновременно. Собственная
семантическая специфика присуща развязкам средневекового рыцарского
романа, плутовского романа и т. п. На этой основе возможно,
очевидно, построение типологии сюжетов, но здесь важно подчеркнуть
другое.
Финализм
- это не черта теоретического сознания Проппа, как думает Бремон,
и даже не свойство отдельного жанра; это неотъемлемая характеристика
сюжета как самостоятельного уровня в повествовательном произведении,
характеристика столь же универсальная, как и законы, управляющие
антропоморфными действиями. Финализм сюжета и есть, очевидно,
та “художественная необходимость”, о которой говорил Пропп и
которая превращает бесконечно ветвящиеся цепочки жизненных событий
в конечное и организованное единство событийного ряда повествовательных
произведений. При этом действие “финалистского механизма” направлено
в сторону, как бы прямо противоположную той, которую предусматривает
“логика повествовательных возможностей” Бремона. Двигаясь от
причины к следствиям, сетка Бремона расползается во все стороны,
как паутина. Наоборот, строясь от конечного результата, сюжет
выбирает на этой [113-114] сетке один-единственный узел (который
и берется в качестве развязки) и “разматывает” событийный клубок
в обратную сторону, пока не дойдет до другого “узла”, который
мог бы послужить в качестве завязки этого сюжета. По пути отбрасываются
все те “повествовательные возможности”, которые не могут вести
к искомому финалу. Вот почему, оставаясь в пределах модели Бремона,
нельзя утверждать, что нарушение исходного равновесия способно
с логической необходимостью привести к его конечному восстановлению.
Зато, если взять в качестве примера все ту же волшебную сказку,
можно с уверенностью сказать, что именно необходимость такого
равновесия в финале непреложно диктует его нарушение в завязке.
Коротко говоря, “антропоморфные действия”, которые в данном
случае предлагает изучать Бремон, задают только синтаксические
правила сочетаемости функций, тогда как сюжет, используя эти
правила, надстраивается над “антропоморфными действиями” за
счет того, что обладает собственной - финалистской - логикой
организации.
Вот
почему, отрицая финализм, Бремон тем самым принципиально закрыл
себе дорогу к изучению сюжета. Но этим дело не ограничивается.
Отметим, что, проделав серьезную эволюцию от ранних работ -
“Le message narratif” (1964) и “La logique des possibles narratifs”
(1966) - к книге “Logique du recit”, он в конечном счете отказался
и от изучения уровня “антропоморфных действий”, что, в частности,
и вызвало его полемику против Греймаса, на которой мы остановимся
в заключение.
Выше
уже говорилось, что эта полемика объясняется спецификой цели,
которую поставил перед собой Бремон, - выявить минимальные условия,
позволяющие считать некоторый текст (безразлично - художественный
или нет) именно повествовательным, т. е. рассказывающим
о некоторых событиях (а не описывающим, к примеру, известные
состояния).
С
этой точки зрения Бремон и выступил против самого членения имманентного
уровня на поверхностную и фундаментальную грамматики,
а в особенности - против предпочтения, отдаваемого Греймасом
фундаментальному “семиотическому квадрату”, якобы способному
порождать “антропоморфные действия”.
Исходя
из того, что сущность всякого повествовательного текста заключается
в изображении некоего становления, развития, изменения, протекающего
во времени, Бремон справедливо считает, что отношение между
S1 и не-S2 или между S2 и не-S1
в принципе никак не поддается динамизации.
Так,
невозможно помыслить осуществляющийся во времени переход от
состояния “небогатый” к состоянию “бедный” (или наоборот), равно
как и от состояния “небедный” к состоянию “богатый” (и наоборот),
потому что дело идет об одном и том же [114-115] состоянии или,
точнее, о двух вариантах этого состояния, соотносящихся как
целое и его часть (богатство есть предельный, но все же частный
случай “небедности”, а “бедность” - частный случай “небогатства”).
Правда,
возможен переход от S1 (бедный) к S2 (богатый)
и от S2 к S1, но такой переход, замечает
Бремон, представляет собой сугубо риторическую фигуру повествования,
создающую драматический эффект, но не могущую считаться необходимым
правилом повествовательного синтаксиса. В самом деле,
“богатство” - это максимум, которого может достигнуть герой,
но, для того чтобы покончить с состоянием “бедности”, ему, может
быть, достаточно стать обладателем коровы или нового дома, а
совсем необязательно становиться владельцем несметных сокровищ.
Вот
почему, утверждает Бремон, единственным правилом повествования
должна быть признана только трансформация S1 (бедный)
в не-S1 (небедный) или S2 (богатый) в
не-S2 (небогатый).
Иными
словами, Бремон сохраняет только диагональные отношения между
терминами греймасовского квадрата, но при этом подчеркивает,
что повествовательный смысл эти отношения могут получить
только на временной оси, когда будет задан процесс перехода
от одного состояния к другому. Между тем фундаментальная грамматика
Греймаса устанавливает между ними парадигматические, т. е. сугубо
ахронные отношения, которые не могут иметь никакого значения
для объяснения самого факта развертывания событий. Вот почему
Бремон считает фундаментальную грамматику попросту бесполезной
для построения теории повествовательного синтаксиса, которая,
по его
мнению, целиком и полностью должна быть сориентирована на изучение
уровня “антропоморфных действий”44.
Все
дело, однако, в том, что Бремон считает излишним и даже вредным
само определение этого уровня как антропоморфного, поскольку
объектом повествовательных текстов являются процессы становления
как таковые, не зависящие от того, являются ли их субъектами
люди (наделенные волей и сознанием), животные (не наделенные
ни тем, ни другим) или даже вовсе неодушевленные предметы природного
мира. Для Бремона текст, описывающий историю Жана, текст, описывающий
фазы деления живой клетки, и текст, описывающий движение планет,
в равной мере являются повествовательными: с его точки зрения,
классема “человеческое” не входит в минимум, необходимый для
определения повествовательности как таковой45.
Отсюда
и, выражение “действие”, составляющее часть понятия “антропоморфные
действия”, также кажется Бремону по меньшей мере излишним, коль
скоро предполагает обязательное наличие [115-116] активного
человеческого существа. Вот почему и понятие “актанта”, и понятие
“модальных категорий”, и категория объекта, синтаксически определяемая
Греймасом как “ценность-для-субъекта”, - все это кажется Бремону
ненужным для построения универсальной теории повествовательных
текстов. Изображение “антропоморфных действий” является, с его
точки зрения, распространенным, но все же частным случаем повествовательности.
Каковы
же, по Бремону, минимальные условия, позволяющие родиться повествовательному
тексту? Эти условия требуют наличия некоторого “субъекта” (безразлично
- одушевленного или нет), наделенного рядом свойств а, b,
с, d и помещенного в начальный момент времени t.
Рассказать “историю” этого “субъекта” - значит проследить, какие
из указанных свойств субъект сохранил к моменту t+l,
какие утратил, а какие претерпели трансформацию. Эти изменения
в “субъекте” Бремон называет “событиями” (evenements), не нуждающимися
ни в антропоморфных агентах, ни в их сознательных поступках
(функциях), а потому предлагает переписать формулу “простейшего
повествовательного высказывания” Греймаса (EN=F(A))
в таком виде: EN=E (evenement)46.
Что
можно сказать по поводу этой модели? Действительно, она обладает
такой степенью универсальности, что позволяет описывать любые
мыслимые трансформации, начиная с приключений персонажей в художественной
литературе и кончая физическими процессами макро- и микромира.
Но нельзя не отметить, что эта универсальность оборачивается
в данном случае крайней абстрактностью, бедностью и, самое главное,
ничтожной плодотворностью для изучения литературных произведений.
В этом отношении ранний Бремон, писавший: “...там, где нет причастности
к человеческому интересу, где изложенные события не порождены
и не пережиты антропоморфным агентом или объектом, там нет и
рассказа. Потому что, только проецируясь на человека, события
приобретают смысл и организуются в структурированный временной
ряд”47 -
этот Бремон представляется гораздо более убедительным, чем Бремон
70-х годов. Во всяком случае, очевидно, что “антропоморфные
действия” Греймаса имеют более прямое отношение к художественной
литературе, чем обесчеловеченные “события” Бремона.
И
все же, коль скоро речь идет именно о литературе, нельзя не
заметить, что обе рассмотренные модели, оперируя литературным
материалом, направлены не к нему, а от него. Он служит для обоих
исследователей лишь отправным пунктом, а “пунктом прибытия”
оказываются минимальные условия повествовательности в одном
случае и логические отношения между простейшими [116-117] единицами
значения - в другом. Повторяем, изучать можно и нужно все уровни,
но важно, каким конечным задачам подчинено такое изучение, как
оно сориентировано. По нашему мнению, применительно к литературе
первейшей задачей, организующей исследование любого уровня,
должно быть не выяснение того, какие тексты следует считать
“повествовательными” (в смысле Греймаса и Бремона), а какие
тексты следует считатъ сюжетными.
Итак,
мы видим, что несомненные успехи французской структурной нарратологии
породили и целый ряд трудностей, а также серьезные противоречия,
существующие между разными ее представителями. На фоне этих
противоречий уместно подчеркнуть черты, которые все же объединяют
различных авторов. Сошлемся на Бремона. Для всех этих авторов,
пишет он, характерен интерес к одной и той же проблематике,
которую можно свести к трем пунктам:
“-
определение повествовательного текста как сообщения, описывающего
становление некоторого субъекта; отсюда - у всех исследователей
- стремление укоренить грамматику (или логику) повествовательного
текста в грамматике (или логике) отношений “субъект-предикат”;
-
разграничение двух способов структурирования повествовательного
текста, соответствующих, по терминологии Греймаса, имманентному
уровню повествовательных структур и внешнему уровню структур
языковых...
-
уверенность в возможности артикулировать последовательность
рассказываемых событий в виде последовательности действий (“функций”,
по Проппу), из которых по крайней мере некоторые смогут занять
место в универсальной лексике нарративности; уверенность в возможности
выявить правила - также универсальные - комбинирования этих
единиц”48.
Еще
раз отмечая позитивные результаты, достигнутые на этом пути,
нужно вновь обратить внимание на неполную адекватность предложенных
моделей задачам сюжетологии как дисциплины. И дело тут не только
в том, что из поля зрения французских структуралистов выпал
сам сюжет, но и в явном недостатке внимания к уровню его “предметной
манифестации”, не говоря уже о “внешнем” уровне языкового воплощения.
Эта проблема нуждается в специальном освещении, поэтому в качестве
примера укажем лишь на одно обстоятельство.
Положив
в основу своих построений справедливую мысль о логической независимости
событийного ряда в произведении от его предметных и языковых
“манифестаций”, и Греймас, и Бремон оказались заворожены ею
и абсолютизировали ее. Бремон, например, имея в виду изобразительно-выразительные
возможности [117-118] разных видов искусства, писал: “...сюжет
сказки может стать сюжетом балета, сюжет романа можно перенести
на сцену или на экран, можно, наконец, пересказать кинофильм
тем, кто его не видел. Мы читаем слова, видим изображения, понимаем
жестикуляцию, но следим при этом за развертыванием некоторой
истории; и может оказаться так, что перед нами - одна и та же
история”49.
Все
это, конечно, верно. Но верно также и то, что, скажем, убийство
старухи Раскольниковым, рассказанное на языке балета, оперы
или комикса, произведет совсем не то впечатление, которое оно
производит в романе, уже в силу одной только смены “языка”,
на котором осуществится этот рассказ. Так, балетный постановщик
при адекватном усвоении сюжета прочитанного им романа в принципе
имеет возможность сохранить и его логику, и его семантику; однако
язык всякого искусства - и в этом, возможно, одна из причин
их разнообразия - обладает неоспоримой способностью выражать
не только семантические значения, но и создавать дополнительные
смыслы, свойственные именно данному языку и закрепляемые за
изображаемым. И если такие смыслы приходят в противоречие с
семантикой сюжетного действия (ср.: Раскольников, танцующий
с топором в руках, перед тем как опустить его на голову балерины,
изображающей старуху), то это может приводить к совершенно нежелательным
(в данном случае - к откровенно комическому и профанирующему)
эффектам.
Следовательно,
сам “язык” искусства способен порождать коннотативные смыслы,
по-своему организующие изображение, и это коннотативное измерение
сюжета должно с необходимостью учитываться при его изучении,
но оно, конечно, бесполезно при исследовании чистого уровня
“антропоморфных действий” Греймаса и тем более “событий” Бремона,
почему и оставило вполне равнодушными названных авторов.
Слабая
изученность уровней предметной и языковой “манифестации” в работах
наиболее авторитетных представителей французского структурализма
заставляет с особым вниманием относиться к любым попыткам хоть
как-то учесть наличие собственно повествовательного (теперь
уже в точном смысле слова) слоя в искусстве, увидеть его активную
роль при построении сюжетных произведений. В этой связи приведем
одно высказывание Ц. Тодорова, для которого в отличие от многих
других его коллег вообще характерен интерес к различным аспектам
“литературности” в литературе. Во введении к своей книге “Грамматика
"Декамерона"”, отводя возможный упрек в том, что он-де исследует
не повествование о человеческих действиях, а логику самих этих
действий, Тодоров писал: “...действия "в себе" никак не могут
[118-119] составлять исследуемого нами объекта; тщетно было
бы искать их структуру вне той, которую придает им дискурсивное
артикулирование. Наш объект составляют действия в том виде,
в каком их организует известный дискурс, называемый повествованием.
Именно в этом отношении наше исследование сохраняет близость
к литературному анализу и не имеет ничего общего с теорией действий
как таковых, даже если предположить, что подобная теория и вправду
может существовать на ином уровне, чем уровень повествования
о действиях”50.
Правда,
сама “Грамматика "Декамерона"” построена целиком в духе “антропоморфных
действий”, а потому вопросы повествовательной организации сюжета
в ней практически не поднимаются. Однако для нас важен самый
пафос приведенной цитаты, задающий для сюжетологии совершенно
иную ориентацию, чем та, которая свойственна работам Греймаса
и Бремона51.
Во
всяком случае, негативные стороны их опыта позволяют легче увидеть
и яснее очертить те области повествовательной литературы, которые
не попали в поле их зрения, хотя и настоятельно нуждаются в
разработке.
Вместе
с тем “урок”, который можно извлечь из этого опыта, заключается
и в другом. Становится понятным, что сюжет - чрезвычайно сложное
образование, формируемое многими механизмами, различными по
своей природе. Поэтому любые попытки “целостного” анализа сюжета,
предпринимаемые помимо уяснения и раздельного изучения каждого
из этих механизмов, вряд ли окажутся плодотворными. Подобный
анализ уместно предпринимать не вместо, а после анализа сюжетопорождающих
закономерностей. В противном случае при любой степени индивидуальной
талантливости исследователя его “целостный” анализ рискует превратиться
в совокупность разрозненных наблюдений над фактами, принадлежащими
самым различным уровням повествовательного произведения, в совокупность,
мнимая целостность которой будет отражать лишь меру произвольности
обобщений данного исследователя.
И
последнее. При всех достоинствах и недостатках рассмотренных
вариантов структурной поэтики не следует забывать о ее главной
задаче - выявлении универсальных законов сюжетообразования,
делающих понятным всякое повествовательное литературное произведение
для представителей самых разных культур или эпох. Речь в данном
случае идет о необходимом минимуме условий, который дает возможность
воспринять как связный, осмысленный и представляющий интерес
для человека любой рассказ о событиях его жизни. В такой минимум,
если брать только логический механизм порождения сюжетов, входят,
по нашему [119-120] мнению, ролевая структура “актантов”, связывающие
их модальные отношения, вытекающая отсюда антропоморфность повествования,
наличие функций как структурных инвариантов конкретных поступков,
причинно-следственная организация этих функций, их спроецированность
на временную ось.
Независимо
от того, при помощи какого метода, ценой каких издержек или
трудностей были установлены названные черты, их универсальность
позволяет считать выделившую их дисциплину фрагментом общей
поэтики, изучающей устойчивые законы литературной формы, благодаря
которым литература сохраняет свое внутреннее единство и самотождественность
на всех стадиях исторического развития.
Примечания
24. См., например, работу “Elements pour une theorie
de l'interpretation du recit mythique”, входящую в книгу A.-J.
Greimas “Du sens”.
25.
Ibid., p. 182.
26. Cм., например: Greimas A.-J. Un probleme
de semiotique narrative: les objets de valeurs //Langages, P.,
1973, № 31, p. 13-35.
27. Пропп В. Я. Морфология сказки, с. 25-26.
28. Bremond Cl. Logique du recit. P., 1973,
p. 18.
29. Пропп В. Я. Морфология сказки, с. 61-62.
30. Bremond Cl. Ор. cit., р. 20.
31. Ibid..p.21.
32. Ibid..p.25.
33. Ibid..p.20.
34. Ibid..p.21-22.
35. Ход есть “всякое развитие от вредительства (А)
или недостачи (а) через промежуточные функции к свадьбе
(С*) или другим функциям, использованным в качестве развязки”
(например, награждение, добыча, ликвидация беды, спасание от
погони и т. п.) (Пропп В. Я. Морфология сказки, с. 83).
36. Bremond Cl. Ор. cit., р. 28.
37. Ibid., р. 28.
38. Ibid..p.32-33.
39. Лотман Ю.М. Искусствознание и “точные
методы” в современных зарубежных исследованиях // Семиотика
и искусствометрия, М., 1972, c. 16-17.
40. Бремон Кл. Логика повествовательных возможностей
// Семиотика и искусствометрия, с. 108-135.
41. Вопрос в том, какова эта мера. Здесь Пропп подвергся
критике с двух прямо противоположных позиций. Если Бремон упрекал
Проппа в том, что тот не исключил из рассмотрения семантику,
то Кл. Леви-Стросс (см.: Леви-Стросс Кл. Структура и
форма: Размышления об одной работе В. Проппа // Семиотика, М.,
1983), напротив, в том, что он едва ли не полностью ее проигнорировал,
восприняв “переменные” величины как лишенный значения субстрат.
Но если, например, задачи, задаваемые дарителем, действительно
меняются от сказки к сказке, то его цели во всех случаях
остаются неизменными. А это значит, что они представляют собой
семантические инварианты сказки и поддаются структурному изучению
в той же мере, что и функции. Парадоксально, но по-своему правы
и Бремон и Леви-Стросс. Причина в том, что, по словам самого
Проппа, он пользовался “эмпирическим” методом (см.: Пропп
В.Я. Фольклор и действительность, М., 1976, с. 133): приступая
к изучению сказки, он не ставил перед собой теоретических задач,
но просто “заметил”, что персонажи разных сказок в разной форме
совершают одни и те же поступки, и ограничился тем, что придал
этому наблюдению систематическую форму. Это и помешало ему перешагнуть
черту, отделяющую сюжет сказки как жанра от абстрактно-теоретической
модели сюжета как такового и, главное, от чисто логического
механизма его порождения. И в этом смысл упрека Бремона, хотя
субъективно Пропп и не ставил своей задачей выход за пределы
сказки. Но в таком случае, изучая именно сказку как жанр, Пропп
по логике исследования должен был бы учесть все семантические
элементы, участвующие в формировании сказочного сюжета. На деле
же он принял во внимание только часть из них (например, факт
импликации Боя Победой), а другую - значительную - часть
слишком поспешно отнес к переменным величинам, за которыми не
стоят семантические инварианты. А с этой точки зрения справедлив
уже упрек Леви-Стросса. Таким образом, Пропп при всем его значении
как первооткрывателя оказался как бы на полпути между абстрактной
моделью сюжета “вообще” и более конкретной моделью сюжета сказочного.
42. Пропп В. Я. Морфология сказки, с. 60.
43. Там же, с. 25.
44. Bremond Cl. Ор. cit., р. 92-94.
45. Ibid., р. 92.
46. Ibid., р. 92.
47. Бремон Кл. Логика повествовательных возможностей,
с. 112. Впервые эта статья была опубликована в 1966 г.
48. Bremond Cl. Ор. cit., р. 101-102.
49. Ibid., р. 12.
50. Todorov Тz. Grammaire du “Decameron”,
The Hague-Paris, 1969, р. 10.
51. И это было замечено. Не случайно Бремон немедленно
выступил с критикой приведенной мысли Тодорова, прямо заявив
при этом, что исследование повествовательных текстов относится
к компетенции логики и антропологии, а отнюдь не к компетенции
“литературного анализа”, в пределах которого стремится оставаться
Тодоров. см. Bremond Cl. Ор. cit., р. 128.
Георгий
Косиков
Вернуться
к началу статьи

![]() На главную страницу
На главную страницу ![]() Новый номер - 1/2005: "Я" и "Другой"
Новый номер - 1/2005: "Я" и "Другой" ![]() Добавить новость или объявление
Добавить новость или объявление ![]() "Я к вам пишу...":
"Я к вам пишу...": ![]() Как стать нашим автором?
Как стать нашим автором?