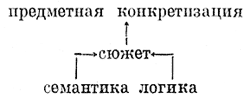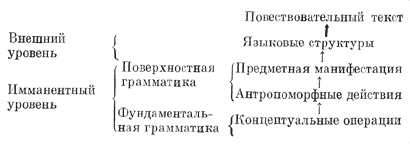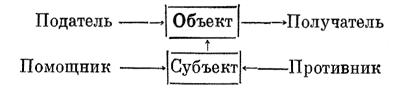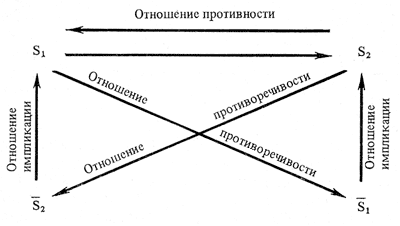©
Г.К. Косиков. Структурная
поэтика сюжетосложения во Франции // Зарубежное литературоведение
70-х годов. Направления, тенденции, проблемы. М.: Наука, 1984,
с. 155-204.
© OCR – Г.К. Косиков, 2003
Текст
воспроизводится по изданию: Косиков Г.К. От структурализма
к постструктурализму (проблемы методологии). М.: Рудомино,
1998, с. 77-122.
Номера
страниц указаны в квадратных скобках.
Оригинал
электронной версии:
http://www.libfl.ru/mimesis/txt/narr.html
Републикация
на сайте "Зеленой лампы" - с любезного согласия автора
СТРУКТУРНАЯ
ПОЭТИКА СЮЖЕТОСЛОЖЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ
Философские
аспекты и методологические основы французского структурализма
могут быть сведены к следующим пунктам:
1)
структурализм как конкретно-научное направление является своеобразным
этапом совершающегося и еще далеко не завершенного перехода
гуманитарных наук с описательно-эмпирического на обобщенно-абстрактный,
теоретический уровень; структурализм осуществляет этот переход
путем использования структурного аналитического метода, моделирования
и формализации;
2)
под структурой при этом понимается система отношений в объекте,
остающихся инвариантными при всех преобразованиях определенного
типа, так что сами преобразования мыслятся как правила, позволяющие
переходить от инварианта к вариантам и от одного варианта к
другому. Тем самым вариативные различия не игнорируются, а выводятся
и объясняются путем установления общей для них основы;
3)
отличительной чертой структурализма является стремление за сознательным
“манипулированием” знаками, образами, символами, осуществляемым
человеком, обнаружить неосознанные, “глубинные” структуры семиотических
систем, их скрытые механизмы, регулируемые либо “социокультурной”,
либо “универсальной” логикой человеческого поведения и мышления;
4)
структурализм как конкретно-научный метод следует отличать от
его функционирования на философском уровне, где внеличностная
“структура”, будучи противопоставлена человеку как субъекту,
играет “ту же роль, что и универсализированное отчуждение в
других философских концепциях”1. Сказанным
и определяется граница между структурализмом как совокупностью
[77-78] научных разработок в различных областях социального
и гуманитарного знания (в этнологии, в лингвистике, в психологии,
в литературоведении) и так называемой “структуралистской идеологией”
(“структурализмом-фикцией”, по определению Кл. Леви-Стросса).
Приведенные
определения раскрывают общенаучную суть структурализма и показывают
его место в становлении современного социального и гуманитарного
знания.
Однако,
кроме логики общенаучного развития, существует еще и логика
развития конкретных наук. С этой точки зрения важно понять,
на какие собственно литературоведческие запросы пытается ответить
французский структурализм. Важно взглянуть на его аналитические
возможности изнутри самой науки о литературе, определить его
не как нечто привнесенное “со стороны”, из других гуманитарных
областей, а как явление, в известной мере порожденное развитием
самого литературоведения.
В
этом отношении особый интерес представляет структурная поэтика,
прежде всего поэтика сюжетосложения. Действительно, с одной
стороны, сюжетология - дисциплина, интенсивно разрабатываемая
вот уже много десятилетий, и это делает ее “представительной”
для демонстрации практических возможностей большинства из существующих
сегодня литературоведческих методов. С другой стороны, сам структурализм,
возможно, именно в этой области раскрыл свои принципы с наибольшей
ясностью и полнотой. Во всяком случае известно, что термин “структурализм”
во французском литературоведении закрепился по преимуществу
за структурной поэтикой, и в первую очередь за структурной поэтикой
сюжетосложения.
Это
было связано с размежеванием двух подходов к литературе, наметившимся
уже в 60-е годы и вполне определившимся в 70-е годы, подходов,
которые Р. Барт назвал соответственно “структурным” и “межтекстовым”.
“Межтекстовое”
направление (представленное самим Бартом, Ю. Кристевой и их
последователями) стремится подвести всякое литературное произведение
под понятие “текст”, трактуемый как “пространство, где идет
процесс образования значений, то есть процесс означивания...
Текст подлежит наблюдению не как законченный, застывший
продукт, а как идущее на наших глазах производство, "подключенное"
к другим текстам, другим кодам (сфера интертекстуальности),
связанное тем самым с обществом, с Историей, но связанное не
отношениями детерминации, а отношениями цитации”2.
Идеи
межтекстовой семиотики, получившие серьезное развитие в рамках
постструктурализма, заслуживают отдельного рассмотрения (см.:
Косиков Г.К. Ролан Барт – семиолог, литературовед //
Барт Р. Избранные работы. Семиотика, поэтика. М.: Прогресс,
1989; Он же. Идеология. Коннотация. Текст // Барт
Р. S/Z. М.: Ad Marginem, 1994. Он же. “Структура”
и/или “текст” (стратегии современной семиотики) // Французская
семиотика: От структурализма к постструктурализму. М.: ИГ “Прогресс”,
2000). [78-79] Здесь же речь пойдет о собственно “структурном”
направлении (А.-Ж. Греймас, Кл. Бремон, Ц. Тодоров, Ж.-К. Коке
и др.), которое видит свою цель в том, чтобы, “исходя из всех
существующих повествований разработать единую нарративную
модель, разумеется, формальную. После того, как эта модель
(структура или грамматика Повествования) будет найдена, можно
будет с ее помощью анализировать каждое конкретное повествование
в терминах отклонений”3.
Мы
постараемся показать, что структурная поэтика вовсе не является
заповедной областью для “посвященных” с “эзотерической” проблематикой.
Напротив, если рассмотреть французскую структурную поэтику в
свете развития современного литературоведения, то можно заметить,
что она пытается решить как раз те проблемы, которые остро стоят
перед рядом уже сформировавшихся или формирующихся литературоведческих
дисциплин. Одной из таких дисциплин, по нашему мнению, является
общая поэтика. Проблемы структурной поэтики - это в значительной
мере проблемы общей поэтики, решаемые структурными методами.
1.
Структурная поэтика в свете задач общей поэтики
Поэтика
- дисциплина, изучающая литературную форму - изобразительно-выразительные
средства, литературную образность, вопросы композиции, сюжетосложения,
стиля, стилистики и т. п. Круг проблем, входящих в ведение поэтики,
огромен, поскольку форма литературных произведений определяется
множеством факторов. Она зависит от конкретно-исторического
содержания произведения, от индивидуальности автора, от его
культурных ориентаций, от системы литературных и языковых средств,
которые данная страна и данная эпоха предоставляют в его распоряжение
и т. д. В зависимости от того, на какой из этих моментов ориентируется
исследователь, перед ним возникают существенно разные проблемы.
Эти проблемы как раз и нуждаются в дифференциации, а сама поэтика
- во внутреннем членении. Не претендуя на единственное решение
вопроса, можно тем не менее выделить в рамках поэтики по крайней
мере три “поддисциплины”, достаточно четко отграниченные друг
от друга.
1.
Прежде всего следует назвать историческую поэтику, одним
из основоположников которой был А. Н. Веселовский. Так, в его
работе “Из истории эпитета” (1895) предпринята попытка выделить
в связи со сменой различных стадий словесного творчества различные
виды эпитетов4 затем,
чтобы на этом примере показать, как происходило разложение “типичности”
(например, устойчивости и повторяемости) [79-80] большинства
формул эпической поэзии в пользу “индивидуализма” личной поэзии
более поздних эпох.
Таким
образом, объектом исторической поэтики является не внутренняя
структура отдельного приема или художественного средства (того
же эпитета, метафоры или метонимии) и не их функционирование
в контексте того или иного конкретного произведения, но развитие
этих приемов, средств и целых их комплексов от эпохи к эпохе.
Таков необходимый и достаточный минимум проблем, входящих в
круг исторической поэтики. Например, установив и объяснив факт
принципиальной невозможности выражений типа “душистые сказки”
в народно-эпической поэзии, объяснив затем, почему подобные
выражения с необходимостью возникали в литературе нового времени,
историческая поэтика может считать свою задачу в принципе выполненной
и не интересоваться индивидуальной спецификой тех текстов, из
которых она почерпнула названные выражения.
2.
Вот почему наряду с исторической поэтикой существует поэтика,
которую удобно назвать функциональной. Ее объектом является
форма произведения как целостного образования, взятого
по возможности во всей совокупности его внутренних связей. Если
историческую поэтику интересует историческая подвижность литературных
форм, если она ориентируется не столько на их наличное состояние,
сколько на их “историко-психологическую перспективу” (Веселовский),
например, на их фольклорные и мифологические корни, то функциональная
поэтика подходит к произведению именно как к наличной и завершенной
данности, смысловое единство которой можно понять, лишь показав
функциональную роль элементов, образующих это единство. Иными
словами, основной реальностью, с которой имеет дело функциональная
поэтика, ее исходным и конечным объектом являются конкретные
произведения, а ее задачей - “прочтение” этих произведений,
т. е. описание их системы и раскрытие их значения.
3.
Однако можно ли раскрыть функциональную роль эпитета в данном
конкретном тексте, не зная, что такое эпитет “вообще”; можно
ли удачно проанализировать взаимоотношения персонажей в сюжете
реального произведения, не выработав абстрактно-обобщенного,
теоретического представления о понятиях “сюжет” и “персонаж”?
Функциональная
поэтика резко отличается и в то же время находится в прямой
зависимости от общей поэтики. Последняя своим объектом
имеет не строение того или иного индивидуального произведения
и не историческую изменчивость известных литературных “приемов”,
но, наоборот, всеобщие, универсальные законы и принципы, в соответствии
с которыми строится любое [80-81] литературное произведение,
законы, порождающие всякую организованную и осмысленную литературную
форму. К примеру, утверждение “всякое сюжетное действие с необходимостью
имеет завязку и развязку”, равно как и само определение этих
категорий, относится к области общей поэтики; анализ же фактической
завязки и ее роли в единстве, скажем, пушкинского “Выстрела”
входит уже в компетенцию поэтики функциональной.
Таково
предварительное определение общей поэтики, нуждающееся, конечно,
в уточнении и развитии5.
Для
этого сразу же необходимо поставить вопрос о времени возникновения
общей поэтики. Здесь существуют два противоположных ответа.
Первый: общая поэтика - молодая дисциплина, начавшая складываться
в ответ на запросы современного литературоведения примерно на
рубеже XIX-XX вв. Второй: общая поэтика насчитывает около двух
с половиной тысяч лет и восходит по крайней мере к Аристотелю.
Этот
ответ может показаться более естественным и предпочтительным,
чем первый, поскольку Аристотель действительно поставил ряд
проблем, сохраняющих значение вплоть до настоящего времени,
в частности, попытался сформулировать и систематизировать общие
законы, управляющие литературными высказываниями.
Однако
важно не только то, какие проблемы ставил Аристотель, но и то,
как и с какой целью он их ставил и каким образом решал.
Его “Поэтика” и “Риторика” - не свод эмпирических наблюдений
над литературной техникой, а целостное учение, преследующее
совершенно определенную цель, продуманная система, укорененная
в самом способе античного мышления и социальной практики. Поскольку
этот способ в значительной мере противоположен современному,
есть все основания видеть в поэтико-риторическом учении Аристотеля
не столько прообраз, сколько антипод современной общей поэтики.
Разница заключается в представлении о предмете, задачах и способах
создания литературных произведений.
Три
понятия могут служить ключом к учению Аристотеля о словесном
творчестве - “осуществленность” (энтелехия), “искусство” (технэ)
и “наука”, “знание” (эпистемэ).
По
Аристотелю, все вещи имеют внутренне им присущую меру совершенства.
Это совершенство - наиболее адекватное соответствие вещей своему
предназначению - есть цель, ради которой они возникают
и к которой стремятся: среди предметов любого рода существуют
(или могут существовать) такие, в которых реализовались все
внутренние возможности, свойственные этому роду. В таком смысле
классическая античность говорила о [81-82] совершенном доме
и совершенном щите, о совершенной вазе и о совершенной трагедии.
Стремление предметов к своей смысловой, структурной и формальной
завершенности как раз и покрывалось у Аристотеля понятием “энтелехия”.
При
этом, если природные предметы достигают такой завершенности
исключительно за счет имманентной им потенции и энергии, то
изготовленные людьми предметы нуждаются для этого в помощи со
стороны соответствующего мастера, т. е. требуют определенной
деятельности. Однако деятельность Аристотель нигде и никогда
не понимал как творчество в современном смысле слова,
т. е. как активную и созидательную силу, как продукт индивидуального
вдохновения и свободной самореализации субъекта. Напротив, и
человеческую деятельность, и человеческий разум он трактовал
как пассивные начала и без остатка подводил под понятие “искусство”.
“Искусство” Аристотель определял как “умение”, опирающееся,
с одной стороны, на “опыт”, на практический навык, а с другой
- на знание общих правил данного вида деятельности. По Аристотелю,
“искусство” - это знание, мастерство и сноровка, которые надлежит
проявлять в любом деле, в любом ремесле.
Так,
когда мастер приступает к изготовлению вазы, он имеет перед
своим умственным взором ее будущий образ, но этот образ есть
не плод его индивидуальной фантазии и творческой оригинальности,
а канонический образ, воплощающий наиболее совершенные
пропорции, присущие вазам. Это значит, что та идеальная “форма”
(эйдос), к которой стремится изготовляемый мастером предмет,
задана ему извне, и его задача сводится только к тому, чтобы
осуществить эту преднайденную форму. Здесь-то и приходит на
помощь “искусство”. Овладевший своим искусством человек не творит,
но лишь открывает и обнаруживает потенциально присущие вещам
идеальные формы. Строго говоря, он не создает изготовляемый
им предмет, предмет сам выявляется и возникает при посредстве
искусного мастера.
Важнейшей
чертой всякого “искусства” является то, что ему можно научиться.
“Наука”, по Аристотелю, - это теоретические знания относительно
каждого из искусств, совокупность правил и предписаний.
Поэзия
полностью подпадала под энтелехиальную схему Аристотеля и находила
свое естественное место в ряду остальных “искусств”. Если цель
трагедии заключается, скажем, в том, чтобы “очищать” души зрителей,
то, следовательно, с необходимостью должна существовать, идеальная,
“образцовая” трагедия, наилучшим образом достигающая этой цели.
С той же необходимостью должно существовать и “искусство”, при
посредстве [82-83] которого можно сочинить подобную трагедию,
а также соответствующая “наука”, научающая этому “искусству”.
Такой
“наукой”, “наукой о делании” поэтических произведений, руководством
и наставлением в “искусстве” сочинять образцовые трагедии и
была “Поэтика” Аристотеля, которую можно охарактеризовать трояким
образом.
Во-первых,
имея целью наставить поэта в его ремесле, она отличалась телеологической
направленностью. Во-вторых, она имела нормативно-предписывающий
характер, так как ее “наставления” мыслились как незыблемые
правила, которые поэт должен неукоснительно соблюдать. В-третьих,
она была прагматична, поскольку правила эти были не чем
иным, как сводом практических предписаний.
Сказанного
достаточно, чтобы определилось коренное отличие современной
теоретической поэтики от “искусства поэзии” Аристотеля: теоретическая
поэтика не телеологична, не нормативна и не прагматична; она
не ставит своей задачей научить писателей сочинению “правильных”
пьес, романов или стихов, подобно тому как теоретическая грамматика
отнюдь не учит искусству правописания.
Разумеется,
многие, в том числе и обобщающие, наблюдения Аристотеля сохраняют
свое значение и поныне и, несомненно, сохранят его в дальнейшем.
Однако смысл всякой теории определяется не количеством верных
наблюдений, а ее логикой. Сила и громадное влияние, которое
“Поэтика” оказывала вплоть до конца XVIII в., объясняются тем
фактом, что именно до этого времени в теоретическом сознании
западных европейцев, безусловно, господствовало представление
о поэзии как об “искусстве”6.
Это
представление рухнуло в эпоху романтизма, когда возникла принципиально
новая концепция человеческой деятельности, а именно, когда субъект
этой деятельности из “средства”, при помощи которого “осуществляется”
тот или иной предмет, превратился в полновластного, суверенного
творца своего произведения, а само произведение - в средство
обнаружения и выявления личности этого творца. В результате
на смену нормативно-прагматическому подходу, квалифицирующему
все литературные произведения по степени их соответствия идеальному
образцу, в XIX в. пришли разного рода генетические концепции:
представление о произведении-продукте полностью вытеснило представление
о произведении-модели. Тем самым высшей ценностью была признана
“оригинальность” этого произведения, воплощающего в соответствии
с методологическими установками основных литературоведческих
направлений, возникших в тот период, либо [83-64] самобытный
“дух” эпохи или народа, либо исторически детерминированное сознание
различных социальных коллективов, либо индивидуально-неповторимую
психологию автора.
Для
“науки поэзии” все это имело катастрофические последствия: она
попросту распалась на множество фрагментов, обломков, если не
полностью обессмысленных, то во всяком случае заметно обесцененных.
Из этих обломков и сложилась в XIX в. так называемая описательная
(или “школьная”) поэтика. Она унаследовала весь материал, многообразные
наблюдения и разработанные дефиниции, но безвозвратно утратила
дух, смысл существования и главную прерогативу нормативной поэтики
- диктовать общеобязательные правила поэтического мастерства.
Задача
описательной поэтики гораздо более скромна, хотя отнюдь не бесполезна.
Ее отличительная черта - эмпиризм, способ функционирования -
движение по замкнутому кругу. Установив определение известных
литературных приемов и средств (завязка, развязка, метонимия,
синекдоха и т. п.), она затем старается отыскать эти приемы
в текстах реальных произведений, а отыскав, приступает к их
инвентаризации. Но что делать после того, как все эти приемы
описаны, инвентаризованы и классифицированы? Не умея поставить
вопроса ни об их историческом развитии, ни об их функционировании,
ни тем более о социокультурных, логических или психологических
законах их порождения, описательная поэтика способна лишь вновь
возвращаться в область текстов для того, чтобы еще раз подтвердить
на их примере реальность существования выделенных ею “литературных
средств”. Речь идет о тавтологическом процессе: найдя в тексте
“завязку”, “кульминацию” и “развязку”, такая поэтика считает
свою задачу выполненной, объявив названный текст “сюжетным”;
обнаружив в нем обилие метафор, довольствуется тем, что определяет
его как “метафорический” и т. п.
С
самого начала положение описательной поэтики отличалось известной
двойственностью. С одной стороны, поскольку основные литературоведческие
направления XIX в. (биографическое, культурно- и духовно-историческое,
социологическое) проявляли очень слабый интерес к вопросам литературной
формы, монополия на ее изучение - самой силою вещей - оказалась
в руках описательной поэтики: в сложившихся условиях только
она была способна дать хоть какое-то упорядоченное описание
формальных особенностей литературы.
Однако
ее принципиальный эмпиризм не позволял ей даже претендовать
на статус теоретической дисциплины, а ее неспособность ответить
на коренные запросы современного ей литературоведения отодвигала
описательную поэтику на далекую и тихую [84-85] периферию, в
сторону от методологических битв, разыгрывавшихся на литературно-теоретической
авансцене.
Однако
хотя положение описательной поэтики было достаточно скромным,
оно не утрачивало от этого своей прочности. Мы недаром назвали
эту поэтику “школьной”, ибо, не находя себе достойного места
в рамках теоретических представлений о литературе, выработанных
XIX в., она нашла его в многочисленных учебных пособиях, приобрела
неоспоримое значение как учебный предмет, как своего рода “букварь”
для начинающих историков литературы, дающий им первые понятия
об основных категориях литературной формы. Практическая необходимость
такого предмета очевидна, объясняя тот факт, что “школьная”
поэтика продолжает благополучно существовать и поныне в различных
“вводных” работах по литературоведению.
Ошибкой
было бы думать, что современная теоретическая поэтика (в том
числе и общая) возникла в результате углубления и переработки
нормативной или описательной поэтик. Общую поэтику вызвала к
жизни необходимость ответить на важнейший вопрос, с которым
столкнулось в своем развитии историческое и генетическое литературоведение
XIX в. Вопрос этот следующий: если признано, что все произведения
мировой литературы исторически и индивидуально неповторимы и
самобытны, то значит ли это, что их неповторимость абсолютна?
Не существует ли, напротив, в области литературной формы таких
законов и таких структур, которые общи для всех литературных
произведений независимо от их исторической и индивидуальной
принадлежности? Каков характер и природа этих законов?
Лингвистическая
аналогия поможет проиллюстрировать эту проблему. Известный пример
Л. В. Щербы - “Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит
бокренка” - показывает, что в любом языке (в данном случае в
русском) возможны фразы, абсолютно правильные с точки зрения
своего грамматического строения, хотя и бессмысленные в семантическом
отношении: очевидно, например, что, хотя предмета, именуемого
“словом” “куздра”, в природе не существует, “слово” это является
существительным, скорее всего одушевленным, женского рода, единственного
числа, стоящим в именительном падеже и играющим роль подлежащего,
что “будлануть” - глагол, обозначающий действие, совершаемое
субъектом - “куздрой” и направленное на объект - “бокра” и т.
п. Напротив, фраза “Коровой бодаю быку” не может быть понята
никем, потому что в ней не соблюдены законы грамматики, хотя
предметное значение входящих в нее слов понятно всякому.
Число
фраз, возможных в каждом языке, бесконечно, бесконечно [85-86]
варьируется их семантическое, психологическое, идеологическое
содержание, бесконечны ситуативные и коммуникативные контексты,
в которых могут появляться эти фразы, но теоретическая грамматика
даже и не пытается охватить это многообразие в его конкретности.
Ее задача - установить те грамматические условия, которые, предшествуя
реальному смыслу любой конкретной фразы, позволяют ему родиться.
Такая грамматика изучает не отдельные фразы, а создает абстрактную
(в данном случае отвлеченную от семантического материала) модель,
порождающую любую правильную фразу данного языка. Она, следовательно,
изучает тот необходимый минимум условий, который делает возможным
самый акт словесной коммуникации - понимание отправителем и
получателем передаваемых друг другу сообщений. Грамматика -
это своего рода логика естественных языков.
Общая
поэтика как дисциплина возникает из предположения, что литература,
подобно любой другой форме символико-культурной деятельности,
также имеет свою “грамматику”, свою “логику”, которой подчиняются
все без исключения произведения. На практике применительно к
ряду активно изучаемых аспектов литературы это хорошо известно:
известно, скажем, что любое произведение во всей его индивидуальной
неповторимости вместе с тем строится по законам определенного
рода и жанра, отвечает требованиям известного метода, течения,
направления и т. п. К примеру, понятие “реалистический метод”
есть не что иное, как абстрактно-теоретическая модель, где формулируется
совокупность условий, выполнение которых порождает все множество
конкретных произведений, называемых реалистическими. Черпая
из этих произведений материал для своих обобщений, теория реализма
занята, однако, не их целостным анализом, а текстообразующими
законами “реалистического метода”. Иначе говоря, “грамматика”
реализма, “грамматика” драматургии, “грамматика” новеллы и т.
п. - все это такие же реальности литературной теории, как и
фразовая грамматика теоретической лингвистики.
Что
касается общей поэтики, то ее объектом является “грамматика”
литературной формы на ее наиболее абстрактном уровне, т. е.
формы, взятой в отвлечении от тех ограничений, которые накладывает
на нее не только индивидуальность автора, но и литературный
род, жанр, метод, культурная эпоха в целом и т. п. Общая поэтика
стремится построить текстопорождающую модель для всех существующих
(или даже могущих возникнуть) литературных произведений.
Легко
понять, что эта задача сопряжена с громадными трудностями, однако
уже само ее формулирование позволяет понять [86-87] всю новизну
общей поэтики в ее отличии от нормативной и описательной поэтик.
Что
касается нормативной поэтики, то по своей природе она предполагает
обязательное разделение всех известных ей литературных произведений
на две группы - “правильные”, которые считаются единственно
отвечающими законам природы и человеческого разума, и “неправильные”,
которые объявляются “нелепыми” и “бессмысленными”. Важнейшая
операция нормативной поэтики - это исключение всех “неправильных”
произведений из “настоящей” литературы. С точки зрения нормативной
поэтики эти произведения не только не подлежат какому-либо анализу,
но и попросту признаются ложными и потому как бы несуществующими.
Напротив,
общая поэтика стремится не исключить, а включить в рассмотрение
все известные ей тексты. При этом если какой- либо из них не
укладывается в рамки предлагаемой теоретической модели, то общая
поэтика признает скорее неудовлетворительность собственной теории
(а не ущербность рассматриваемого произведения) и будет стремиться
к ее перестройке, а не “отлучению” необычного текста от “правильной”
литературы.
Далее,
мера прагматизма нормативной поэтики является мерой ее нетеоретичности:
ставя своей задачей научить авторов сочинять образцовые
произведения, эта поэтика тяготеет к тому, чтобы фиксировать
только такие единицы литературной формы и только такие правила
их соединения, которые могут непосредственно осознаваться писателями.
В противоположность этому общая поэтика, решительно отказываясь
от прагматической функции, стремится описать глубинные уровни
литературы, которые, как правило, авторами не осознаются и реализуются
в их произведениях независимо от их субъективных намерений.
Общая поэтика занята не выработкой практических рекомендаций,
а изучением природы и логики “литературного мышления”.
В
этой связи общая поэтика вырабатывает собственный подход к понятию
литературная форма, не отменяя, естественно, при этом
иных подходов. С этой точки зрения отметим следующее. Во-первых,
о литературной форме нередко говорят как о форме некоего данного
произведения, как о средстве объективации и выражения его конкретного
содержания. Это выразительная форма. Она предстает как
нечто подчиненное и обусловленное содержанием, а ее анализ имеет
целью показать, каким образом писателю удалось воплотить свою
идею в образных, стилевых и т. п. структурах. При таком подходе
сама творческая деятельность автора в известном отношении мыслится
как подбор различных приемов, наиболее адекватно воплощающих
его замысел, из [87-88] некоторого “арсенала” литературных средств,
потенциально находящегося в распоряжении всех писателей.
Этот
“арсенал”, номенклатуру формальных приемов, рассмотренных еще
до их “употребления” в том или ином конкретном тексте, также
нередко именуют литературной формой. Форма в таком смысле является
объектом интереса со стороны нормативной и описательной поэтик,
для которых важно, например, таксономическое определение метафоры
или метонимии как самостоятельных приемов.
Объектом
же общей поэтики являются закономерности и механизмы
литературной формы как начало, упорядочивающее всякое конкретное
содержание. Скажем, для целей описательной поэтики достаточно
определить метафору или метонимию так, как это делают различного
рода “Поэтические словари”. Общую же поэтику в данном случае
будут интересовать именно метафорический и метонимический способы
развертывания любого произведения. Так, многие исследователи
приходят к выводу, что каждый новый элемент литературного текста
присоединяется к предыдущему либо на основе метафорической,
ассоциативной связи с ним (этот тип доминирует в лирике), либо
по метонимическому принципу смежности (сюда тяготеют повествовательные
произведения). Вне действия этих механизмов невозможно возникновение
никакого связного, осмысленного текста, невозможна передача
никакого содержания. “Сбой” в их работе, к примеру неумение
данного автора связать образы ни по принципу сходства, ни по
принципу смежности, есть не что иное, как случай литературной
“афазии”, приводящей к возникновению “алитературного” текста
в том же смысле, в каком аграмматичными являются фразы, где,
скажем, подлежащее и сказуемое не согласованы в лице или числе.
Подобно
тому как любое мыслительное содержание с неизбежной необходимостью
отливается в универсальные для человеческого сознания формы
логических суждений, законы которых устанавливает формальная
логика, подобно тому как семантическое содержание языка упорядочивается
в виде фраз, правила построения которых определяет грамматика,
любое литературное содержание также оформляется и организуется
в соответствии с механизмами “литературного мышления”. Если
существует логика метафорического или метонимического развертывания
произведений, то возможно предположить существование такой же
логики, определяющей его сюжетное, или фабульное, строение,
законы, порождающие литературные описания и повествовательные
“точки зрения” и т. п.
Проблемы
общей поэтики неоднократно возникали перед представителями едва
ли не всех литературоведческих направлений [88-89] XX в. в той
мере, в какой они сталкивались с самим фактом существования
всеобщих законов литературной формы. Заслуга теоретической разработки
понятий “фабула” и “сюжет” в аспекте их текстопорождающей функции
принадлежит русскому формализму; анализу организующей роли повествовательных
“точек зрения” много внимания уделяла англосаксонская “новая
критика” и т. п.
Однако
большинство подобных разработок и открытий было подчинено не
выделению общей поэтики как самостоятельной дисциплины со своим
объектом и методами, а общеметодологическим установкам названных
направлений, и представляло ценность для их создателей лишь
в той мере, в какой отвечало этим установкам. Формалисты, например,
пришли к идее разграничения сюжета и фабулы не в результате
сознательного поиска обобщенных законов “литературной грамматики”,
а отправляясь от представления о всяком произведении как о синтагматически
структурированной целостности, не нуждающейся для понимания
ее эстетического смысла ни в какой содержательной интерпретации.
Сама сюжетность была понята ими как художественно самодостаточный
“прием”, а не как один из основополагающих способов литературного
мышления, и это поставило преграду на пути дальнейшего их углубления
в природу сюжетосложения. “Палеонтологический” метод, в принципе
интересуясь именно константными образованиями в литературе,
свел, однако, дело к разыскиванию в литературных произведениях
долитературных - мифологических и ритуальных - пластов, отложившихся
еще в древнейшие эпохи, так что универсальные структуры образно-символической
логики человека оказались неотчлененными от одного из ее исторических
(точнее сказать, доисторических) вариантов - от структур первобытного
мышления. “Новая критика” также в значительной мере растворила
поставленные ею проблемы обшей поэтики в проблеме “традиции”,
как ее понимал, например, Т. С. Элиот.
Важно,
однако, что проблемы эти ставились (и не только названными
школами), хотя, возможно, далеко не всегда формулировались с
должной теоретической определенностью. В этом смысле историю
общей поэтики еще предстоит написать, выделив ее из истории
методологической борьбы различных литературоведческих направлений
XX в. постольку, поскольку эти направления при всей их, зачастую
непримиримой, теоретической разноголосице все же выходили на
один и тот же объект - “грамматику” литературной формы.
Разумеется,
ни одно из современных литературоведческих направлений, в том
числе и французский структурализм, не может [89-90] претендовать
на монополию в разработке проблем общей поэтики. “Право” на
такую разработку принадлежит любой науке и любой школе, способной
раскрыть законы литературной “логики”. Однако следует отметить,
что французский структурализм явился как раз тем направлением,
в рамках которого идеи общей поэтики были сформулированы в открытой
форме и с необходимой определенностью. Укажем здесь на две причины.
Во-первых, сам структуралистский поиск инвариантов в литературе,
естественно, наталкивал на предположение о том, что, возможно,
в известном смысле все конкретные произведения являются лишь
вариативными реализациями одних и тех же закономерностей, действующих
на протяжении всего периода существования литературы. Во-вторых,
необходимо отметить сильное влияние “порождающей модели” Н.
Хомского. Во всяком случае, именно опираясь на Хомского, Р.
Барт в 1966 г. сформулировал определение общей поэтики (которую
он назвал “наукой о литературе”). “Наряду с языковой способностью,
постулированной Гумбольдтом и Хомским, - писал Барт, - человек,
возможно, обладает еще и литературной способностью, речевой
энергией, которая не имеет ничего общего с его "гением", так
как она заключена не во вдохновении и не в индивидуальных волевых
устремлениях, а в правилах, сформировавшихся за пределами авторского
сознания. Мифический голос Музы нашептывает писателю не образы,
не идеи и не стихотворные строки, а великую логику символов...”7. Нас
в данном случае интересует не степень бесспорности приведенного
определения Барта, а самый факт осознания необходимости общей
поэтики как дисциплины.
Такое
осознание свойственно и большинству других представителей французского
структурализма. Приведем в качестве примера определение Ц. Тодорова:
общая поэтика (Тодоров называет ее просто “поэтикой”) “ставит
своей целью выработать такие категории, которые позволили бы
описать все литературные произведения в их единстве и разнообразии
одновременно. При этом всякое индивидуальное произведение будет
играть роль иллюстрации, оно получит статус примера, а не статус
высшей реальности. Поэтика займется разработкой теории (литературных.
- Г.К.) описаний, которая покажет, в чем все возможные
(в литературе. - Г. К.) описания похожи друг на друга
и в чем, с другой стороны, они отличаются одно от другого; но
ее отнюдь не будут занимать специфические особенности описаний
в том или ином конкретном тексте... Эта исходная установка поэтики
определяет и ее научную устремленность: объект науки - не эмпирический
факт, а законы, его объясняющие... Поэтика своей задачей имеет
не "правильную" интерпретацию произведения прошлого, но выработку
[90-91] инструментария, позволяющего анализировать эти произведения.
Ее объект - не совокупность существующих к настоящему времени
литературных произведений, но литературный дискурс как порождающий
принцип, создающий все бесконечное количество текстов. Итак,
поэтика - это теоретическая дисциплина, которую питают и оплодотворяют
- но отнюдь не образуют - эмпирические исследования”8.
Таким
образом, задачи построения общей поэтики действительно формулируются
во французском структурализме вполне четко. Теперь необходимо
посмотреть, как они решаются. Что касается структурной теории
сюжетосложения, то здесь укажем на три проблемы. Первая сводится
к вопросу об определении самого предмета сюжетологических исследований,
вторая - к вопросу о природе категорий, с которыми имеет дело
общая поэтика, - являются ли они сугубо литературными (т. е.
рождающимися исключительно в рамках самой литературы) или же
имеют “долитературный” характер - формируют литературные высказывания,
но сами относятся к сфере общих интеллектуальных способностей
человека? Третья проблема тесно связана с двумя первыми. Структурализм
во Франции в значительной мере исходит из стремления расчленить
изучаемый объект на иерархически подчиненные друг другу уровни,
причем “поверхностные” уровни рассматриваются как средство “манифестации”,
предметного закрепления более глубоких уровней. При таким подходе,
по крайней мере в тех работах, о которых пойдет речь, активными
признаются только глубинные слои, оказывающие формирующее воздействие
на поверхностные; возможность же конституирующей роли поверхностных
уровней не принимается во внимание либо недооценивается. Возникает
вопрос: правомерно ли такое понимание глубинных и поверхностных
уровней, и если даже с известной точки зрения правомерно, то
до каких пределов должен продолжаться процесс обнаружения все
более и более глубоких уровней? В зависимости от ответов на
эти вопросы рассмотрим две сюжетологические модели, принадлежащие
соответственно А.-Ж. Греймасу и Кл. Бремону.
2.
Структурная поэтика сюжетосложения. Два подхода
Понимая
под сюжетом развитие событий в произведении, подчеркнем, что
он представляет собой не “долитературную” (то, “что было на
самом деле”, по выражению Б. В. Томашевского), а именно литературную
категорию. Рассказать события так, “как они случились
в самой жизни”, в принципе невозможно в том отношении, что самим
актом рассказывания автор отбирает, [91-92] выделяет и укрупняет
те поступки, происшествия, ситуации и их подробности, которые
значимы с точки зрения его ценностного отношения к действительности,
и, наоборот, отбрасывает те из них, которые таким значением
не обладают. Сюжет - не жизненный материал, а его организация
средствами литературного повествования. При этом реально, т.
е. при чтении произведения, сюжет является читателю только через
его повествовательное изображение, через всю систему
предметной организации, во всей совокупности предметных деталей,
короче, в своей предметной конкретности.
Совершенно
необходимо, на наш взгляд, отличать эту предметную конкретизацию
сюжета от самого сюжета, который может быть вычленен из реальной
полноты изображаемой в произведении цепи событий в качестве
ее “структурного инварианта”. Что это значит?
Сюжет
стремится к своему наиболее “чистому” обнаружению в тех, например,
случаях, когда мы пересказываем друг другу прочитанный роман,
увиденный кинофильм и т. п. При этом сама вариативность подобных
пересказов позволяет обнаружить то общее, что есть между ними
всеми, то, что невозможно опустить ни при каком изложении сюжета
- как бы логический центр, к которому они направлены. Этот центр
может быть определен двояким образом.
Во-первых,
любой сюжет следует признать удовлетворительно изложенным только
в том случае, когда изложение передает модальные (хотеть,
мочь, знать) отношения между персонажами, а также причинно-следственные
связи между событиями. Связно пересказать сюжет - значит рассказать,
вследствие чего случились те или иные события и каким образом
они вытекают одно из другого. Совокупность модальных отношений
между персонажами и причинно-следственные связи между событиями
мы будем называть логическим механизмом порождения сюжета. Но
этим дело не ограничивается.
Представим
себе два суммарных изложения одной и той же истории: 1. “Один
богатый и старый помещик решил жениться на девушке-сироте, но
этому стал мешать его брат, опасавшийся, что останется без наследства”,
и т. п. 2. “Субъект А решил получить объект Б, столкнувшись
при этом с противодействием антагониста В, желавшего овладеть
объектом Г, который принадлежал субъекту А”.
Несмотря
на то что второй пересказ сохраняет абсолютно все логические
связи, содержащиеся и в первом пересказе, никто не признает
его в качестве сюжетного пересказа приведенной истории.
Причина в том, что в данном случае опущены все семантические
[92-93] характеристики персонажей. Между тем охарактеризовать
“субъект А” в качестве “богатого старика”, а “объекту Б” приписать
свойства “быть девицей” и “быть сиротой” - значит сказать очень
многое. Нам сразу становится понятно, почему “субъект А” может
и готов претендовать на руку девушки, почему старик и девушка
оказались в поле зрения и интереса друг друга и т. п.
Коротко
говоря, наряду с логическим существует семантическое измерение
сюжета, задающее, во-первых, “характеры” персонажей, их положение
(например, на социальной или возрастной лестнице, в системе
родственных отношений и т. п.), а во-вторых, вытекающие отсюда
мотивировки их поступков. Мотивировки - это цели и желания персонажей,
их стремление изменить наличную ситуацию, восполнить недостачу
чего-либо или, наоборот, приобрести новые ценности и т. п.
Содержание
мотивировок (и в целом семантика литературы) имеет не формально-логическую,
а социокультурную природу. В зависимости от того, каким
народом, в какой стране, в какую эпоху, в рамках какого типа
мышления, в каком жанре создается произведение, семантика свойственных
ему мотивировок будет меняться вплоть до того, что может становиться
попросту непонятной для представителей иной культуры, иной страны,
эпохи и т. п. Обычная трудность в усвоении читателем сюжета,
пришедшего из чужой культуры или эпохи, - это неспособность
проникнуть в систему свойственных им мотивировок, а отсюда -
либо отвержение такого сюжета как нелепого, либо, чаще всего,
переосмысление его по канонам собственных культурных моделей,
замена непонятных мотивировок знакомыми и привычными. Итак,
логика развития сюжета в произведении - это не только формальная
логика, это также его социокультурная логика, “социологика”.
Можно
пересказать сюжет с любой степенью предметной конкретности или
абстрактности, можно даже добавлять от себя целый ряд “красочных”
деталей, можно практически полностью сменить весь изобразительный
слой произведения (например, при его инсценировке или экранизации),
но чтобы утверждать, что речь идет об одном и том же
сюжете, мы должны знать, что в нем сохранены как логические
(модальные и причинно-следственные), так и семантические отношения
между персонажами и событиями. Вот почему сюжет можно определить
как “конструкт”, как логический (и в смысле формальной логики,
и в смысле “социологики”) инвариант событийного уровня произведения,
сохраняющий структурную тождественность самому себе при различных
способах его предметной конкретизации, включая, разумеется,
и ту каноническую, которую сюжет получает в окончательном авторском
варианте текста. [93-94]
Характер
соотношения выделенных категорий можно представить следующим
образом:
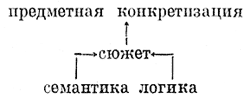
Итак,
предварительно сюжет удобно определить как плоскость, в которой
сходятся по крайней мере две - логическая и семантическая -
закономерности, определенным образом взаимодействующие и упорядочивающие
друг друга. Эта упорядоченность, составляющая специфику сюжета
как самостоятельной величины в произведении, нуждается, конечно,
и в самостоятельном изучении. Однако в таком же изучении наряду
с “предметной конкретизацией” нуждаются и законы, “сходящиеся”
в плоскости сюжета. Можно, следовательно, раздельно изучать
как семантические, так и логические правила сюжетопорождения.
По этому, второму, пути чаще всего и идет французская структурная
поэтика.
Присмотримся
в связи с этим к модели, предложенной А.-Ж. Греймасом - одним
из наиболее влиятельных представителей современной французской
сюжетологии. Прежде всего Греймас исходит из необходимости расчленения
повествовательного текста9 на
уровни. Начинает же он с выделения двух таких уровней - внешнего
и имманентного.
Внешний
уровень - это уровень языкового воплощения текста, который играет,
по Греймасу, пассивную роль материального “субстрата” по отношению
к имманентному уровню и потому исключается автором из рассмотрения10.
Имманентный же уровень - это все, что предшествует языковому
воплощению, нуждается в нем как в средстве членораздельного
артикулирования, но в логическом отношении остается от него
независимым.
Имманентный
уровень Греймас называет также повествовательной грамматикой,
которую, в свою очередь, подразделяет на фундаментальную
и поверхностную. Далее, в поверхностной грамматике
он также выделяет два уровня - уровень предметной манифестации
(manifestation figurative) и уровень антропоморфных действий
(“faire” anthropomorphe). В целом уровневая схема Греймаса может
быть представлена в следующем виде: [94-95]
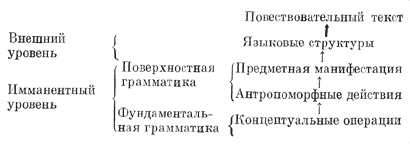
Прежде
всего следует остановиться на различении Греймасом уровня “предметной
манифестации” и уровня “антропоморфных действий”. Генетически
такое различение восходит к концепции В. Я. Проппа, выделившего
в “Морфологии сказки”11 “постоянные”
и “переменные” величины сказочного повествования, однако по
сути радикально отличается от этой концепции в ряде существенных
моментов.
Поставив
своей задачей определить сюжетный инвариант русской волшебной
сказки, Пропп провел принципиальную границу между персонажами
сказки и их поступками как “переменными” величинами и
действующими лицами и их функциями как величинами
“постоянными”. Поступки персонажей в их изобразительной конкретности
могут быть самыми разными, осуществляться различными средствами
и в пределе бесконечно варьироваться от сказки к сказке. Однако
все эти поступки могут быть разнесены по разным группам в зависимости
от той функции, которую они выполняют. Например, некоторые
из них могут выполнять функцию вредительства по отношению
к главному герою. Функция, таким образом, выступает в роли инварианта
по отношению к конкретному поступку-варианту. Количество мыслимых
поступков в сказке бесконечно, а число функций ограниченно.
Примерно
в такую же зависимость Пропп поставил персонажей и действующих
лиц. Как и поступки, конкретные персонажи могут варьироваться
от сказки к сказке, могут меняться некоторые, необязательные
с сюжетной точки зрения, “атрибуты” (возраст, пол, внешний облик
и т. п.), но во всех случаях этим персонажам соответствует семь
структурных инвариантов - действующих лиц, каковыми являются:
1) антагонист (вредитель); 2) даритель (снабдитель); 3) помощник;
4) царевна (искомый персонаж) и ее отец; 5) отправитель; 6)
герой; 7) ложный герой.
Действующие
лица, по Проппу, - это “исполнители” функций, и их сюжетный
статус определяется свойственными им “кругами действий” (так,
в круг действий царевны и ее отца входит задавание трудных задач,
наказание вредителя и т. п.). [95-96]
Короче,
Пропп четко отделил сюжет сказки от его предметной конкретизации.
“Переменные” величины у Проппа - это варьируемый уровень предметной
изобразительности и выразительности, тогда как “постоянные”
- это сам сюжет в его логической и семантической определенности.
Что касается логического аспекта сказочного сюжета, то здесь
все ясно: Пропп четко выделил отношения импликации, связывающие
функции в последовательную цепочку, а также указал на роль модальных
категорий в построении сюжета.
Несколько
сложнее обстоит дело с другим важнейшим вопросом, вопросом о
сказочной семантике. Между семантикой сказки и ее предметной
детализацией Пропп не провел столь же четкой границы, какую
он установил между функциями и их изобразительными воплощениями
- поступками. Поэтому, решая вопрос чисто теоретически, он проявил,
как кажется, известные колебания. Так, с одной стороны, он склонен
был думать, что роль мотивировок сводится лишь к тому,
что они “иногда придают сказке совершенно особую, яркую окраску”,
а потому “принадлежат к самым непостоянным и неустойчивым элементам
сказки”, “представляют собой элемент менее четкий и определенный,
чем функции или связки”12.
Очевидно, однако, что в этом случае речь у Проппа идет не о
сказочном (или даже мифологическом) содержании мотивировок,
а именно об их предметной детализации, которая действительно
может варьироваться в значительных пределах.
Но,
с другой стороны, говоря о многих предметных деталях и подробностях,
свойственных сказке (например, о золотых волосах царевны), Пропп
ясно понимал, что дело тут не в простой “яркости” или “красочности”
таких подробностей, а в том, что они выводят на специфически
сказочную (или - шире - мифологическую) семантику. В этой связи
Пропп отмечал, что “лежание Ивана на печи (черта интернациональная,
а не только русская), связь его с умершими родителями, содержание
запретов и нарушение их, сторожевая застава дарителя (основная
форма - избушка яги), даже такие подробности, как золотые волосы
царевны (черта, распространенная по всему миру), приобретают
совершенно особое значение и могут быть изучены”13.
Какова
бы ни была степень теоретической продуманности у Проппа проблемы
сказочной семантики, несомненно, что его практическое описание
сюжета волшебной сказки в известной мере учитывает роль этой
семантики: это сказывается и в содержательной наполненности
самих функций, еще более ярко - в определении действующих лиц,
а также в ряде других моментов, о которых речь пойдет ниже.
Именно благодаря учету не только логики, но и семантики сказки
Проппу удалось построить обобщенную (инвариантную) модель ее
сюжета. [96-97]
В
этом отношении модель Греймаса коренным образом отличается от
модели Проппа. Что касается выделяемого Греймасом уровня “предметной
манифестации”, где действуют “человеческие или очеловеченные
существа, выполняющие определенные задачи, подвергающиеся испытаниям
и стремящиеся к своим целям” (с акцентом на изобразительной
конкретизации этих действий и их мотивов)14,
то он тяготеет (почему только тяготеет, а не совпадает, будет
показано ниже) к выделяемому нами уровню “предметной конкретизации”,
соответствующему “переменным” величинам у Проппа. Во всяком
случае, этот уровень предполагает наличие конкретизированных
персонажей, мотивировок и поступков, изображенных во всех их
подробностях. Понятиям “персонаж” и “поступок” соответствуют
у Греймаса термины “acteur” и “action”.
В
отношении “постоянных” величин Греймас употребляет выражения,
аналогичные пропповским, а именно сохраняет термин “функция”,
а “действующих лиц” обозначает как “деятелей” или “актантов”
(actants), рассматривая их в качестве инвариантов по отношению
к конкретизированным персонажам и поступкам.
Принципиальная
разница заключается, однако, в том, что, будучи семантизированы,
действующие лица и функции у Проппа принадлежат сюжетному уровню
волшебной сказки как жанра, а “актанты” и “функции” Греймаса
полностью освобождены от каких бы то ни было семантических ограничений
и принадлежат чисто логическому уровню антропоморфных действий,
причем сам этот уровень мыслится автором как способный породить
не сюжет какого-либо отдельного произведения, жанра и т. п.,
а сюжетную логику любого повествовательного текста.
Это
видно хотя бы из различий в определении Проппом и Греймасом
самого понятия функции. Для Проппа важно было понять сказочную
функцию как “поступок действующего лица, определяемый с точки
зрения его значимости для хода действия”15.
Его интересовала по преимуществу синтагматическая связанность
функций между собой, обусловленность каждой из них наличием
предшествующей и последующей, так что в конечном счете определение
функции выводилось из ее места в развертывающемся синтагматическом
ряду (“действие не может определяться вне своего положения в
ходе повествования. Следует считаться с тем значением, которое
данная функция имеет в ходе действия”16),
причем место это строго обусловлено. Например, вредительству
в волшебной сказке, согласно Проппу, всегда предшествует подвох,
на который жертва поддается (пособничество), а само вредительство
влечет за собой противодействие со стороны героя; и т.п. Речь
для Проппа идет о единственно возможном порядке, в котором могут
располагаться функции в волшебной сказке, что и зафиксировано
в его “третьем постулате”17:
“Последовательность [97-98] функций всегда одинакова”18.
Однако сам Пропп отметил при этом, что “указанная закономерность
касается только фольклора”19,
т. е. не вытекает из универсальных логических правил сюжетообразования.
Действительно,
если с чисто логической точки зрения совершенно понятно, почему,
скажем, противодействие героя вредителю не может начаться раньше,
чем тот причинил вред, то, напротив, никакой логической необходимости
в том, чтобы подвох стоял именно на шестом месте в распорядке
функций, установленном Проппом, нет. Очевидно, последовательность
по крайней мере некоторых функций, зафиксированных Проппом,
диктуется не собственно логическими, а, скорее всего, семантическими
законами фольклора. Можно даже предположить, что и сами функции,
подобные подвоху, порождены именно семантикой сказки, коль скоро
ее логическая природа в них не нуждается: ведь в принципе вредительство
(функция, без которой невозможна завязка как логически необходимый
элемент сюжета) может осуществиться как без предварительного
подвоха со стороны антагониста, так и без пособничества
жертвы. Короче, сама синтагматика сказки пропитана у Проппа
не только логикой, но и семантикой, более того, семантика прямо
диктует некоторые синтагматические аспекты сказки.
Что
касается Греймаса, то его определение функции принципиально
освобождает ее от каких бы то ни было предустановленных синтагматических
связей, но зато теснейшим образом связывает эту функцию с ее
носителем - “актантом”. Скажем, если персонаж определяется как
вредитель, то и его функция должна быть обозначена как
вредительство. При этом персонаж может быть наделен и
иными признаками (например, быть “любящим отцом” и по отношению
к своей дочери выступать уже совсем в другой роли - роли помощника),
но его функция всегда будет определяться тем качеством, которое
актуализируется в данный момент повествования. Итак, специфика
функции F выводится Греймасом из содержания “актанта”
А и
наоборот20,
что позволяет автору дать формулу “простейшего повествовательного
высказывания” (enonce narratif): EN=F(A).
Таким
образом определенная функция действительно обладает универсальностью.
Наполняясь тем или иным семантическим содержанием на сюжетном
уровне, обладая способностью вступать там в любые синтагматические
связи, сама она не зависит ни от семантики, ни от синтагматики
сюжета, а принадлежит сугубо логическому уровню “антропоморфных
действий”.
Такое
понимание функций позволяет Греймасу выделить и соответствующий
им набор “деятелей” - построить структурную [98-99] модель “актантов”
на основе связывающих их модальных отношений21:
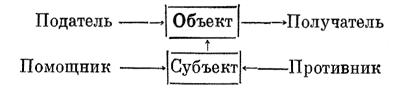
Она
может читаться следующим образом: субъект (например,
герой) стремится овладеть объектом (приобрести богатство,
жену, знания и т. п.), что и приводит действие в движение. В
данном примере субъект является в то же время и получателем
объекта, поскольку он стремится приобрести его для самого себя;
но получателем может быть и другое лицо или человеческий коллектив,
на благо которых действует субъект. Далее, должен существовать
податель объекта (например, отец девушки), владеющий
им и в силу каких-то причин передающий его в распоряжение субъекта.
Наконец, на пути к овладению объектом герой неизбежно сталкивается
с противником (лицо, группа лиц, объективные обстоятельства,
собственная слабость и т. п.), препятствующим ему в достижении
цели, и с помощником, способствующим ее достижению.
Любой
из действующих в мировой литературе персонажей играет, по Греймасу,
одну из указанных ролей, т. е. является определенного рода “актантом”
и выполняет соответствующую функцию. При этом (на что применительно
к волшебной сказке обратил внимание Пропп) разные персонажи
могут выполнять одну и ту же функцию (например, противником
может быть и отец девушки, и мачеха героя, и различные фантастические
персонажи, и животные, и природные явления), и, наоборот, один
персонаж может совмещать в себе несколько ролей (пример Греймаса:
если герой женится на девушке и дело совершается без участия
третьих лиц, то герой одновременно является и субъектом,
и получателем, а девушка - объектом и подателем,
поскольку она сама распоряжается своей судьбой).
Обобщение
модели Проппа, которое имеет место у Греймаса, заключается,
таким образом, в том, что он перевел анализ с собственно сюжетного
уровня на выделенный им уровень “антропоморфных действий”. Модель
Греймаса описывает логический минимум, необходимый для того,
чтобы могло возникнуть действие, а следовательно, и сюжет. Этот
минимум имеет отношение не только к литературе, но и к поведению
людей в самой жизни.
Итак,
уровень “антропоморфных действий” включает в себя [99-100] “актантов”,
связывающие их модальные отношения и их функции; кроме того,
он предполагает наличие движения от одного состояния
к другому, причем движение это обязательно проецируется на временную
ось, “темпорализуется”.
Однако
все эти черты принадлежат лишь поверхностной грамматике,
считает Греймас, и могут быть сняты путем перехода на еще более
глубокий уровень фундаментальной грамматики.
Действительно,
“антропоморфные действия” имеют дело с начальным и конечным
состоянием субъекта и интересуются самим процессом трансформации
одного в другое, осуществляемым путем актуализации отдельных
функций. Объектом же фундаментальной грамматики, по Греймасу,
являются сугубо статические, парадигматические отношения
между названными состояниями.
Так,
фраза “Субъект X, первоначально обладавший свойством S1,
в результате собственных действий изменил свое положение и стал
обладать свойством не-S1 (например: “Жан, будучи
вначале беден, стал затем обладателем некоторой суммы денег,
то есть стал небеден”), описывая переход от первого состояния
ко второму, относится, по Греймасу, к уровню антропоморфных
действий, тогда как выделение самих категорий S1
(бедный) и не-S1 (небедный) и установление между
ними логического отношения противоречивости относятся уже к
компетенции фундаментальной грамматики, где определению
подлежит не простейшее “повествовательное высказывание”, а простейшая
“структура значения”, которая может быть представлена так22.
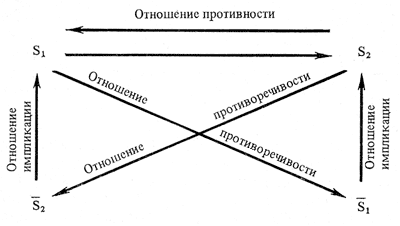
[100-101]
Термины этой модели соотносятся друг с другом следующим образом:
S1 (бедный) и не-S1 (небедный) находятся
в логическом отношении противоречивости. То же касается терминов
S2 (богатый) и не-S2 (небогатый). S1
(бедный) и S2 (богатый) соединяет отношение противности.
Наконец, не-S2 (небогатый) может быть специфицировано
в форме S1 (бедный), а не-S1 (небедный)
- в форме S2 (богатый) в смысле, по Греймасу, что
богатство является частным случаем “небедности” (поскольку можно
быть “небедным”, но при этом не являться богачом), из чего Греймас
и заключает, что не-S2 имплицирует S1,
а не-S1 имплицирует S2.
По
мысли Греймаса, его фундаментальная грамматика также универсальна,
поскольку способна порождать любые знаковые системы, как повествовательные
(темпорализованные), так и неповествовательные (например, чисто
идеологические или чисто аксиологические). В сущности, это “грамматика
осмысленности” для любой сферы культурного мышления: по Греймасу,
чтобы концептуально упорядочить какой-либо мыслительный материал,
мы неизбежно подводим его под выделенные категории и устанавливаем
между ними указанные отношения. Все возможные дальнейшие операции
с этим материалом строятся на базе таких отношений. Так строится
и поверхностная повествовательная грамматика, уровни
которой Греймас представляет как способы конкретизирующей “манифестации”
глубинных категорий.
К
примеру, достаточно свойство S1 приписать субъекту
X, наделив его способностью “желать” и введя затем процесс трансформации
этого свойства и свойство не-S1, как мы немедленно
окажемся на уровне антропоморфных действий. Достаточно,
далее, персонифицировать этот субъект в виде какого-нибудь конкретного
лица (“Жана”), наделив его различными внешними и внутренними
приметами, а также специфицировав предикат S1 в виде
качества “быть бедным”, от которого Жан стремится избавиться;
конкретизировать процесс трансформации в форме перехода Жана
от полуголодного существования батрака к жизни состоятельного
крестьянина, как с уровня антропоморфных действий мы
перейдем, по Греймасу, на уровень предметной манифестации,
где немедленно придут в движение некоторые конкретные события
и не остановятся до тех пор, пока Жан либо не достигнет своей
цели, либо не потерпит поражения.
Такова
в самых общих чертах модель Греймаса, которую “следует признать
серьезным достижением, учитывая правильную постановку вопроса
и правильное направление методических поисков”23.
Заслуживая серьезного внимания, теория Греймаса вызывает на
размышления. Отметим здесь следующее.
Читать
статью дальше
Примечания
1. Современная буржуазная философия, М., 1978, с.
557.
2. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика,
М., 1989, с. 424.
3. Там же.
4. А именно: тавтологический, когда и прилагательное
и существительное выражают одну и ту же идею (белый свет);
пояснительный, характеризующий предмет со стороны его
существенных или же идеальных признаков (ествушка сахарная);
метафорический (черная тоска); синтетический,
переносящий известный признак в несвойственную для него сферу
(душистые сказки).
5. Следует указать на существование еще одной поэтики
- описательной (или “школьной”), речь о которой пойдет ниже.
6. Напомним в этой связи, что даже Лессинг, столь
энергично боровшийся против теории и практики классицизма, апеллировавшего
к “Поэтике” Аристотеля, сознавался тем не менее, что считает
этот трактат таким же непогрешимым, как и “Начала” Евклида,
и прямо заявлял, что “трагедия не может отступить ни на шаг
от пути, указанного Аристотелем, и если будет удаляться от него,
то в той же мере удалится от своего совершенства” (Лессинг.
Гамбургская драматургия, М.-Л., 1936, с. 396).
7. Барт Р. Избранные работы, с. 357.
8. Ducrot О., Todorov Тz. Dictionnaire encyclopedique
des sciences du langage, P., 1972, p. 106-107.
9. Нужно подчеркнуть, что выражения “повествование”,
“повествовательный текст”, “повествовательные структуры” и т.
п. во французской структурной поэтике (в том числе и у Греймаса)
чаще всего употребляются не в точном смысле - смысле “рассказывания”
о чем-то (с учетом приемов такого рассказывания и т. п.), а
в равной степени для обозначения всех уровней, входящих в “имманентную
структуру” произведения. В дальнейшем это словоупотребление
не оговаривается.
10. Greimas A.-J. Du sens, Р., 1970, р. 159.
11. Пропп В. Я. Морфология сказки, Л., 1928.
12. Пропп В. Я. Морфология сказки, 2-е изд.
М., 1969, с. 69.
13. Там же.с. 81-82.
14. Greimas A.-J. Du sens, р. 166.
15. Пропп В. Я. Морфология сказки, 2-е изд.,
с. 25.
16. Там же, с. 24.
17. См.: Ревзин И. И. К общесемиотическому
истолкованию трех постулатов Проппа // Типологические исследования
по фольклору, М., 1975.
18. Пропп В. Я. Морфология сказки, 2-е изд.,
с. 25.
19. Там же, с. 26.
20. Ср. аналогичную, но данную в несколько иных терминах
формулировку у О. М. Фрейденберг: “Значимость имени персонажа
и, следовательно, его метафорической сущности развертывается
в действие, составляющее мотив; герой может делать только то,
что семантически сам означает” (Фрейденберг О. М. Поэтика
сюжета и жанра, Л., 1936, с. 249).
21. Греймас А.-Ж. Размышления об актантных
моделях // Вестник МГУ, сер. “Филология”, 1996, № 1, с. 127.
22. Greimas A.-J. Semantique structurale,
Р., 1966, р. 160.
23. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа, М., 1976,
с. 95. Критический анализ существенных аспектов концепции Греймаса
можно найти в работе: Мелетинский Е. М. Структурно-типологическое
изучение сказки // Пропп В. Я. Морфология сказки, 2-е
изд., с. 145-151.
Георгий
Косиков
Читать
статью дальше

![]() На главную страницу
На главную страницу ![]() Новый номер - 1/2005: "Я" и "Другой"
Новый номер - 1/2005: "Я" и "Другой" ![]() Добавить новость или объявление
Добавить новость или объявление ![]() "Я к вам пишу...":
"Я к вам пишу...": ![]() Как стать нашим автором?
Как стать нашим автором?